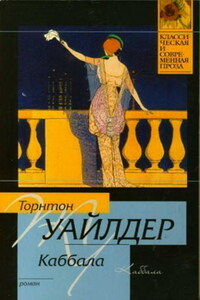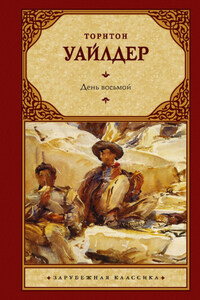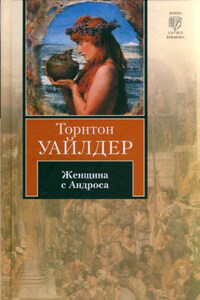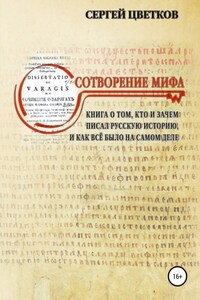Часть первая
Первые встречи
Поезд, которым я впервые в жизни приехал в Рим, был переполнен, промозгл и к тому же запаздывал. Несколько раз он неведомо почему застревал в открытом поле, так что к полуночи мы еще тащились, пересекая Кампанью и медленно приближаясь к висевшим над Римом слегка подцвеченным облакам. Порой поезд останавливался у платформы, и неровный свет фонарей озарял на мгновение какую-нибудь величавую, словно самой природой обтесанную голову какого-нибудь прохожего. Тьма окружала эти платформы, и лишь временами проступали в ней кусок дороги или смутные очертания горной гряды. То была земля Вергилия, и казалось, что ветер, поднимаясь с полей, опадает на нас с долгим вергилиевским вздохом, ибо места, вдохновившие чувства поэта, неизменно впитывают чувства, ими рожденные.
Переполненным же поезд был потому, что днем раньше кто-то из туристов унюхал исходящий от неаполитанских нищих запах карболки. Туристы немедленно заключили, что власти, по-видимому, обнаружили один или два случая заболевания индийской холерой и, напуганные ими, принялись дезинфицировать городское дно, подвергая его обитателей насильственному купанию. Сам воздух Неаполя рождает легенды. Грянувший внезапно исход мгновенно привел к тому, что купить билеты на Рим стало практически невозможно, и потому туристы, привыкшие к первому классу, ехали третьим, между тем как в первом обнаружились люди весьма необычные.
В вагоне было холодно. Мы сидели не сняв пальто, с глазами, остекленевшими у кого от смирения, у кого от досады. В одно из купе набились представители расы, путешествующей более прочих, но гораздо менее получающей радости от путешествий, здесь велись бесконечные разговоры о дурных гостиницах, о дамах, которым приходится, садясь, туго оборачивать юбки вокруг лодыжек, дабы воспрепятствовать восхождению блох. Напротив сидела, развалясь, троица итальянцев, возвращавшихся из Америки домой, в какую-то апеннинскую деревушку, после двадцати лет, отданных торговле фруктами и драгоценностями в верхней части Бродвея. Все свои сбережения они вложили в украшавшие их пальцы яркие бриллианты – столь же ярко сияли их глаза в предвкушении встречи с семьей. Легко было вообразить, с каким недоумением станут взирать на них родители, неспособные постичь перемен, лишивших детей обаяния, коим земля Италии награждает и самых скромных своих сыновей, и замечающие только, что дети вернулись раздобревшими, говорящими на каком-то варварском наречии и навсегда утратившими присущую их народу хитроумную психологическую интуицию. Возвращавшихся ожидало несколько бессонных ночей, которые им предстояло провести в душевной смуте под соломенной крышей родного дома, среди бормочущих во сне кур.
Еще в одном купе сидела, прислонясь щекой к подрагивающему стеклу, укутанная в серебристые соболя искательница приключений. Напротив обосновалась матрона, с вызовом вперившаяся в нее неотрывными сверкающими глазами, готовая в любой миг перехватить и пресечь взгляд, который девушке вздумается бросить на ее, матроны, дремлющего мужа. По коридору в надежде на этот же взгляд с самодовольным видом то прохаживались туда-сюда, то застывали, прислоняясь к стене, два армейских офицера, напоминая восхитительно описанных Фабром насекомых, впустую исполняющих ритуал ухаживания перед камушком, просто потому, что пришли в движение некие ассоциативные механизмы.
Были здесь и иезуит с учениками, коротавшие время за латинской беседой; и японский дипломат, погрузившийся в благоговейные размышления над коллекцией марок; и русский скульптор, мрачно вникавший в устройство наших черепов; и несколько студентов из Оксфорда, старательно приодевшихся для пешей прогулки, но почему-то пересекавших поездом местность, лучше которой пешеходу в Италии не найти; и всегдашняя старушка с курицей; и всегдашний молодой американец, с любопытством озиравшийся по сторонам. Такого рода компании Рим принимает в себя по десяти раз на дню – и все равно остается Римом.
Мой спутник сидел, читая потрепанный номер лондонской «Таймс» – сообщения о продаже недвижимости, о новых назначениях в армии и обо всем на свете. После шести лет, проведенных в Гарварде за изучением античного мира, Джеймс Блэр отправился на Сицилию в качестве археологического консультанта съемочной группы, вознамерившейся перенести на экран основные мотивы греческой мифологии. Затея эта провалилась, съемочная группа распалась, а Блэр потом долго еще бродил по берегам Средиземного моря, пробавляясь случайными заработками и заполняя объемистые блокноты наблюдениями и теориями. Его распирали идеи – относительно химического состава красок, которыми писал Рафаэль; касательно освещения, необходимого, по представлениям античных ваятелей, для созерцания их скульптур; по поводу датировки наиболее неприметных мозаик церкви Санта-Мария-Маджоре. Он разрешил мне записать и эти, и многие иные из своих гипотез и даже скопировать цветными чернилами некоторые чертежи. В случае если он вместе с блокнотами сгинет в океанских волнах – что представлялось вполне вероятным, ибо Блэр из бережливости отправлялся через Атлантику на каком-то невразумительном судне из тех, о которых, даже когда они тонут, не пишут в газетах, – печальный мой долг состоял в том, чтобы преподнести эти материалы в дар Хранителю библиотеки Гарвардского университета, где они при всей их неудобочитаемости могут быть сочтены бесценными.
В конце концов отложив газету, Блэр разговорился со мной:
– Хоть вы и едете в Рим учиться, но, может быть, прежде чем засесть за древних римлян, стоит полюбопытствовать, не найдется ли и среди современников интересных людей.
– За современников мне докторской степени не дадут. Пусть ими занимаются наши потомки. А вы кого из них имеете в виду?
– Вам приходилось когда-нибудь слышать о так называемой Каббале?
– О которой?
– О своего рода сообществе людей, живущих в окрестностях Рима.
– Нет.
– Это очень богатые и влиятельные люди. Их все боятся. И все подозревают в заговоре, имеющем целью ниспровергнуть существующие порядки.
– Политические?
– Нет, не совсем. Разве что отчасти.
– Люди из высшего света?
– Да, конечно. Но дело не только в этом. Они к тому же жуткие интеллектуальные снобы. Мадам Агоропулос боится их до того, что я вам описать не могу. Уверяет, будто они время от времени приезжают из Тиволи и затевают интриги, пытаясь протащить через сенат какой-то законопроект, или добиться определенного назначения в церкви, или просто вытурить из Рима какую-нибудь несчастную женщину.