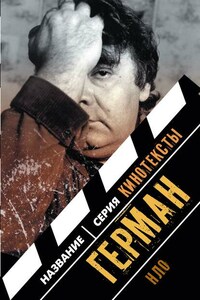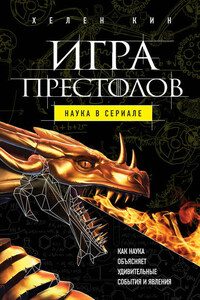В 1961 году мне исполнилось семнадцать лет. Этот год был полон драматических событий. В январе в СССР была проведена денежная реформа, в Америке Эйзенхауэр порвал дипломатические отношения с Кубой, а сменивший его Кеннеди напомнил американцам об «угрозе коммунизма». В феврале «Битлз» первый раз выступили в ливерпульском клубе «Каверна». В марте Поль Робсон пытался покончить с собой в гостинице «Советская» в Москве. В апреле Гагарин летал в космос, у памятника Маяковскому в Москве начали разгонять поэтов, американцы безуспешно пытались высадиться на Кубе, а в Израиле начался процесс над Эйхманом. В июне Рудольф Нуреев стал первым советским артистом-невозвращенцем. В июле Хрущев пообещал построить коммунизм за двадцать лет. В августе вместо этого построил Берлинскую стену и снял со всех постов Фурцеву, а Титов стал космонавтом номер два. В ночь на 1 ноября из мавзолея вынесли Сталина.
В этом же году вышло несколько «оттепельных» фильмов, среди них «Каток и скрипка» Андрея Тарковского, «Человек идет за солнцем» Михаила Калика и, конечно, самое главное, «Високосный год» Анатолия Эфроса, где я снимался в роли Сережи Борташевича. Съемки начались в 1959‐м и продолжались полтора года. Потом я несколько месяцев работал в слесарной мастерской («трудовой стаж» давал преимущества для поступления в институт), потом уволился и поступил на подготовительные курсы Строгановского училища. Трудовой книжки в тот момент у меня не было.
4 мая 1961 года вышел указ о тунеядстве. Пересказывать советские указы своими словами – это все равно, что играть Баха на барабане, поэтому процитирую:
Совершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность – честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда, извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие им вести паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого нетрудовым путём, и обязательным привлечением к труду по месту поселения».
Когда вышел указ, Майя Иосифовна Туровская тут же позвонила моей маме, Калерии Озеровой. Она была близкой подругой семьи. Когда мой отец, Зиновий Паперный, читал друзьям свои гомерически смешные, но идеологически опасные пародии, он всегда просил, чтобы Туровская пришла с мужем, Борисом Медведевым – так заразительно, как он, не смеялся никто.
– Ты понимаешь, что у вашего ребенка нет трудовой книжки, – сказала Майя по телефону, – формально он тунеядец, его в любую минуту могут выслать из Москвы, и вы ничем ему помочь не сможете!
Ее интуиция была безошибочной. Три года спустя именно с помощью указа о тунеядстве Иосифа Бродского отправили в ссылку, и вмешательство известных писателей ему не помогло. В моем случае опасность для никому не известного подростка, конечно, была преувеличена.
– Я член двух творческих союзов, – продолжала Майя, – поэтому имею право нанять литературного секретаря. Мы оформим вашу крошку моим секретарем, делать ему ничего не придется, платить ему я, естественно, не буду, но у него будет трудовая книжка. Пусть завтра приедет ко мне, и мы составим договор.
Эксплуатация труда в СССР была запрещена законом, но к членам творческих союзов это не относилось. Художник, например, имел право эксплуатировать натурщицу, но только после вступления в Союз художников.
Я всю жизнь обращался к Майе Иосифовне по имени и отчеству. Потом она много раз предлагала забыть отчество, но мне трудно было отказаться от привычной с детства формы. Я же всегда оставался для нее «Вадиком». Теперь, после ее смерти, я решил наконец воспользоваться ее разрешением и отбросить отчество.
Шофер или домработница?
Итак, я приехал к Майе, мы составили и подписали договор, с которым я тут же помчался в профсоюз рабочих коммунального хозяйства. Кажется, это было где-то в районе улицы Разина. Мне выдали два документа – «Трудовую книжку» и «Расчетную книжку по найму домашней работницы или шофера». Мне объяснили, что раз в месяц я должен буду приехать и заплатить страховой взнос, что-то около 40 копеек, а в мою расчетную книжку вклеят страховую марку. От чего меня страховал этот взнос, я до сих пор не знаю, но его вклеивали на страницу «страховых взносов за домашнюю работницу», и это немного прояснило мой статус – по крайней мере, я не был шофером.
Эта фиктивная и, возможно, криминальная деятельность продолжалась до 1964 года, когда я поступил в Строгановку – обучение в государственном учебном заведении считалось «общественно полезным трудом». Я перестал ездить на улицу Разина, а профсоюз, если и пострадал от потери моих страховых взносов, то никаких действий по этому поводу не предпринял.
В течение примерно семнадцати лет между поступлением в Строгановку и моим отъездом из СССР Майя занималась интеллектуальным развитием своего бывшего секретаря. Она давала мне книги, ксерокопии статей, свои переводы и многое другое. Наиболее сильное впечатление произвела статья Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и две книги: The Medium is the Massage Маршалла Маклюэна1 и ее собственная книга «Герои „безгеройного времени“»2.
Книга Маклюэна произвела впечатление – не только на меня, но и на друзей-дизайнеров – главным образом, оформлением Квентина Фиоре. Это был не авангард Лисицкого и Родченко, а какой-то новый, неизвестный нам авангард, построенный по принципам коммерческой рекламы. Майина книга оказала на меня более серьезное влияние. Эта книга – взгляд на мир западной массовой культуры из СССР. А уже переехав на этот Запад, она с удивлением обнаружила, что ее взгляд издалека был точным, и это привело ее к неожиданному открытию: «две системы, разделенные железным занавесом, зеркально отражаются друг в друге».