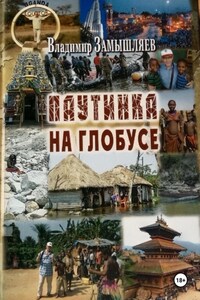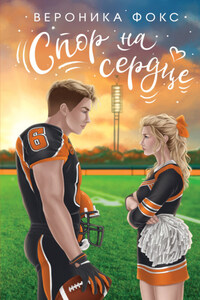«И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: эта женщина говорила мне: «отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». И сварили мы моего сына, и съели его.
И я сказала ей на другой день: «отдай же твоего сына, и съедим его». Но она спрятала своего сына». (4-я книга Царств, гл.6)
Копенгаген. 2013-й год. Премьера пьесы «Дурацкая жизнь».
Уже после дружеского банкета с артистами и гостями режиссер Олуф Харальд позвал меня в свой кабинет, где после рюмки-другой прохладного аквавита вручил мне толстенную тетрадь с густо исписанными по-русски страницами.
– Сам Бог послал мне тебя, – отчего-то волнуясь, произнес Олуф.
С полвека назад, как он пояснил, осужденный на смерть человек по имени Кир доверил его деду Кнуду Харальду неоконченную рукопись. Историю своей жизни. Фактически, исповедь. И только ему одному в целом мире прошептал на ухо последнее признание. Собственно, то, о чем умолчал на суде, и чего сам записать не успел. Или не смог! Так что, волей судеб, заключительная глава этого исповедального повествования – может быть, самая трагическая! – была записана со слов автора, уже после его гибели. Дед Кнуд, по словам Олуфа, холодел при воспоминании о страшной тайне, доверенной ему Киром.
После ухода Кнуда Харальда из жизни рукопись перекочевала к его сыну Эрику Харальду, а затем и к внуку. Как истинный человек искусства, Олуф не удержался и за собственные средства перевел исповедь Кира на датский язык и даже издал небольшим тиражом. Просто, как он объяснил, из уважения к истории, ставшей семейным преданием.
«Это, может, единственный случай в мировой мемуарной практике, – заметил Олуф, – когда книга дописана человеком, никогда не читавшим самой книги».
Так, пробудив мое любопытство, он предложил мне подумать о пьесе, основанной на исповедальных записях Кира. Разумеется, если они меня впечатлят.
Замечу, любое практическое предложение, исходящее от театра (тем более, зарубежного), для драматурга важно и лестно. По возвращении домой, я самым внимательным образом познакомился с рукописью. И не единожды. С каждым прочтением все больше удивляясь невероятной судьбе ее автора. Казалось, сам Бог послал мне сюжет и героя, которому можно сопереживать. И любить…
Измучившись, впрочем, я позвонил Олуфу и признался в своем бессилии создать произведение для театра по мотивам исповеди Кира. Тут нужен Шекспир, сказал я ему…
Между тем, история Кира уже поселилась во мне и заняла значительное пространство моего воображения. Размышляя о нем, я вспоминал судьбы библейского Давида, античного царя Эдипа, новозаветного Иисуса Христа – тоже вволю вкусивших испытаний, уготованных человеку в нашем мире…
Тут, может быть, стоит заметить: что не все из описанных Киром исторических событий (вроде, похорон Сталина и некоторых других) так уж буквально совпадают с комментариями по ним же в учебниках по отечественной истории второй половины
ХХ-го века. Но и тут я, пожалуй, что соглашусь с ирландским пантеистом Иоанном Скотом Эриугеной, однажды сравнившим историю людей с переливающимся множеством оттенков павлиньим хвостом. Сколько людей, полагал он, на самом-то деле столько историй!
Наконец, русский вариант книги Кира публикуется в его первозданном виде, без последующих «датских примесей». Естественно, с благословения любезного Олуфа Харальда.
Семен Злотников
Я знаю, мне нет оправдания, и пишу эту исповедь не потому, что ищу прощения.
Нет кары, достойной того злодеяния, что я совершил – пускай по неведению, пусть по злой воле.
Коварство, проклятье и рок – лишь слова, не способные передать сотой доли несчастий, доставшихся мне от рождения.
Пережитое мною с трудом способно поместиться в судьбе обычного человека.
О, если бы мне до всего намекнули, что ждет меня впереди – я бы тогда же сказал: перебор!
И тогда бы взмолился: увольте!
Теперь, когда все позади, остается вопрос, ответ на который, возможно, получу по ту сторону жизни: за что мне послали мои испытания?..
Сразу должен предупредить случайного читателя этих записок, ищущего отдохновения или веселья: увы, ни того, ни другого он в них не найдет – разве, голую правду о жизни, не приукрашенной одеждами художественного вымысла.
В тесной клетке без окон, с двойными стальными дверьми самой зловещей тюрьмы Дании – фантазии в ум не идут: не до них!
Навряд ли разумно с моей стороны пытаться вернуться к истокам собственной жизни и заново пережить ее ужасы, но – все лучше унынья монотонного ожидания конца…
Итак, меня зовут Кир, и родился я не сегодня.
Лист с дерева по случаю не слетает – тем более, имена к человеку так просто не прилепляются.
Как ни лестно мне было себя представлять некой далекой реинкарнацией древнего победительного царя Кира – привет мне, скорее, был послан от Кира-святого мученика.
Родного отца я в глаза не видел – почти до последнего времени…
Мать моя посвятила мне жизнь: замуж не шла, мужчин или подруг до себя не допускала, и даже на работу – дворничихой в нашем дворе – отлучалась исключительно по ночам, покуда я спал.
Сразу скажу, что она на меня никогда не кричала.
Тем более, пальцем не тронула.
Но и доброго слова – увы! – от неё не слышал.
Мы с нею практически не разлучались.
Общались едва, односложно и по необходимости.
И пользовалась она, преимущественно, повелительными глаголами, я же – неуверенными наречиями.
Сестер или братьев мне Бог не послал, о чем я не раз сожалел.
Любая попытка обзавестись дружочком в образе кошечки или щенка (молчу про соседских детей) матерью моей пресекалась решительно и на корню.
«Посторонние нам ни к чему, Кир!» – тягостно произносила она, пронизывая меня, как рентгеном, тяжелым взглядом своих немигающих глаз цвета дождевой воды, и прибавляла. – Ради тебя одного, Кир, живу, уж поверь!»
Полные света слова – ради тебя одного живу! – отчего-то при этом звучали с угрозой.
В первый класс я пошел в восемь лет, с опозданием на год – все по той же причине: мать моя не желала со мной разлучаться.
Но и там я садился у окна, чтобы она могла меня видеть, стоя через дорогу, напротив, в скудной тени засохшего ясеня.
Во все мои ученические годы она ни разу не отлучилась с поста у мертвого дерева.
И сколько её ни просили не мучить меня и себя – она продолжала стоять, как стояла, и неотрывно глядела в мою сторону.
Поскольку все просьбы и мольбы ничем не кончались – в конце-то концов, её и оставили в покое.
Не раз, и не два доводилось мне слышать: «вот, мать!», «вот, безумная мать!», «вот, не мыслит жизни без сына!», «вот это любовь!».
Люди, они ошибались…
Я и теперь, спустя вечность мог бы назвать любую морщинку на её некрасивом и непроницаемо угрюмом лице, по памяти перечесть следы от царапин, порезов или ожогов на её крепких жилистых руках, и даже число заусениц вокруг обкусанных ногтей – но я не припомню, когда бы она из-за меня потеряла голову.