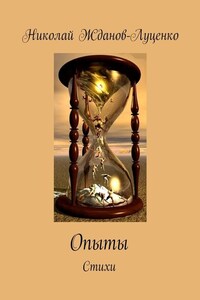Художественное оформление Елены Сергеевой
Издательство благодарит литературное агентство “Banke, Goumen & Smirnova” за содействие в приобретении прав
Автор благодарит Даныяла Ашхаруа за помощь с переводом
© Бергер Д.
© ООО “Издательство АСТ”.
Не знаю, что является сутью других земель, – я ведь нигде не был, но моя родина имеет в своей основе тройственность – кофе, перец и кровь.
Здесь у них нет ни объема, ни массы, ни протяженности, словом, всего того, что свойственно материи. Хотя вру – вот плотность, пожалуй, есть. В том смысле, что они, то уплотняясь, то вновь разрежаясь, как бы придают местному времени вещественность, вкусом и запахом пропитывая эпохи и минуты послеобеденного сна.
Кофе состоит из круглых атомов, которые, смешиваясь с водой, превращают обычную темноту в густую ночь перед самым новолунием. Тьма окутывает тебя, тяжелит веки, делает слова значительными и неспешными – кто вообще решил, что кофе бодрит? Он что, никогда не пил кофе в горячем мареве, смягченном – да и то лишь слегка – полотняной тенью улицы Банщиков?
А перец… Кто отважится провести по перечной доске широким влажным языком, тот немало удивлен будет. Ведь после огня придет сладость. И продержится ровно столько, сколько времени нужно слезе, чтобы омыть глаз. А потом, сквозь слезы, почувствует смельчак и послевкусие, голодное и злое. И увидит, как караван кораблей, груженных жгучим перцем, тонет у самого берега и целый день радует нищих старух обильным уловом рыбы, славно просоленной и перченной, как надо. Но потом рыба надолго уйдет отсюда… Уже кости тех старух, что собирали по берегу перченую рыбу, истлеют, а рыба так и не вернется. Пока однажды не принесут люди жертву морю, сверх меры наполнив его своей кровью и кровью тех, кто живет на ближайших островах. Тогда-то рыбаки заново осмолят лодки, зачинят сети и вернутся домой только под утро, усталые и счастливые. Их жены найдут в желудках рыб тяжелые пули и отдадут их сыновьям, чтобы те играли.
Любой вам скажет, что кофе, кровь и перец, будучи взятыми попарно, дадут три сочетания. Скажет и будет прав. Но если он хоть немного знаком с поварским искусством, то отринет закон о неизменности суммы в результате перестановки слагаемых и найдет еще три возможности. Ведь мы-то, повара, знаем, что в каждом блюде важно то, в каком порядке следуют ингредиенты. Вот поэтому-то сочетаний будет шесть.
И я выберу свое – кофе и перец.
От крови я отрекся пятьдесят лет назад, в последний раз сойдя на берег в качестве судового кока. Море в тот день было похоже на старика, мучимого густой мокротой. Оно отхаркнуло меня, как многих, застрявших в нем своими нелепыми, развороченными телами. Захлебываясь волнами, как приступами кашля, ругалось море шепотом на нас, на испуганных чаек, на вонючую маслянистую жидкость, вытекавшую из тонущего корабля… Море с отвращением сплевывало все это на землю, нарочно метя в скалы, и утирало щербатый рот просоленным рукавом. Из всей команды славного фрегата «Кисмет» только я не разбился о камни. И ныне, перерезая сонную артерию животного – а ведь я мужчина, и мне приходится делать это в праздник жертвоприношения, – я благодарю Аллаха, Милостивого и Милосердного, за то, что дернувшееся под моим ножом животное не пело ангельским голосом колыбельных своим детенышам. Слава Аллаху, Милостивому и Милосердному! Слава Аллаху!
Я счастливый человек. Даже сейчас, когда среди седых волос темные стали попадаться все реже и больные суставы порой совсем не слушаются, а спина к вечеру ноет так, что, будь я собакой, завыл бы… Даже сейчас.
Мои сны полны счастья. В них нет ни боли, ни печали, ни уныния, а сомнения, если и прокрадываются ко мне в сон, касаются только приятной возможности выбора. И тогда я, по словам жены, шевелю губами и восторженно поднимаю брови. Там, во сне, я решаю, что подам на стол сегодня.
И едва решу, как сразу же сновидение наполняется в избытке всем, что потребно для главного блюда этой ночи. И продукты всегда наивысшего качества, будь то мраморная, с тончайшим рисунком белой кисти по алому полотну, говядина или живой еще, шевелящий, подобно мне, губами крупный паламут. Валятся откуда- то на стол перцы, краснобокие и полнотелые, баклажаны, блестящие и черные, поскрипывающие от спелости, сладкий лук сам падает под нож.
Щеку обжигает жар от печи. Она ждет, утроба ненасытная, когда я разделю с ней свою любовь. Да, пусть зароком будущего счастья будет запах, источаемый ею, чуть горьковатый запах можжевельника.
А я пока займусь соусом. Чем еще насытить душу, возжелавшую красного мяса из жаркой печи? Может быть, сырым томатным соусом? Мелко рублю – нож сечет нежную мякоть, едва касаясь доски. Все эти ваши блендеры-шмендеры, Иблис отец им! Нет, вот нож возьми из хорошей стали и заточи его! И вот уже красная гора увенчана пряной зеленью, а склоны ее сияют частыми кристаллами соли. И соль впивается в томатное тело, вытягивая из него на поверхность сок.
Я замираю. Предчувствие не слаще ли наслаждения?.. Исчезают цвета и звуки. Даже запах, первый помощник повара, скромно уступает дорогу вкусу. Но спите, правоверные, все спокойно! Спите.
Проснувшись, я могу на мгновение удержать в памяти ниспосланный мне вкус. Он становится все слабее, рассеяннее, в то время как разум, наоборот, проясняется. Наконец я открываю глаза, переворачиваюсь на левый бок и, нащупав мягкое горячее бедро жены, говорю: «Доброе утро, Танели! Что прячешь ты от меня в тайнике под холмом?»
«Зайди, – говорит Танели. – И сам посмотри, Хозяин моих холмов и пещер. Если что найдешь, знай – это твое. Никогда не будет во мне ничего от другого мужчины!»
Так мы здороваемся с моей Танели каждое ут- ро вот уже сорок лет, и никогда не надоест нам это.
Потом я пью кофе. Кофе с перцем.
Помню, как в школе учитель рисовал на доске треугольники, круги, писал какие-то цифры и формулы. Формулы надо было знать наизусть, чтобы потом подставлять числа вместо букв и таким образом получать новые числа. Зачем? Нам не объясняли, но во мне тогда поселилась мысль, что без этих формул не сможет прорасти колос, не будут крутиться колеса арбы, а земля – она ведь такая же, как глобус, только большая – слетит с удерживающего ее стержня и разобьется о небесную твердь.
Поэтому простой веры учителю мне было мало. Как можно ссылаться в таком важном вопросе на каких-то греков, которые придумали все эти штуки и заставили остальных жить по своим правилам? Ужасно несправедливым казалось мне подчиняться грекам, тем более умершим так давно, что даже моя бабушка не помнила никого из них по имени.
И как-то раз я решил проверить самый невероятный и загадочный из всех известных мне тогда фокусов, а именно постоянство соотношения длины окружности и ее радиуса. Первым делом я вытащил из своего ботинка шнурок и привязал его к спичке, чтобы начертить круг. Потом я долго пылил по песку пяткой, рисуя все новые и новые круги – с помощью шнурка, рукава от рубашки и длиннющего седого волоса с головы моей бабушки. Результат измерения всякий раз подтверждал правоту ненавистных мне греков, а число π – со своими девятнадцатью известными учителю знаками после запятой и, по словам учебника, бесконечным рядом цифр после тех первых девятнадцати – не давало покоя.