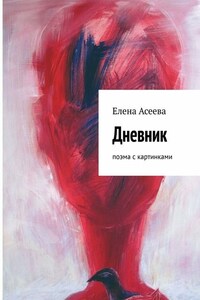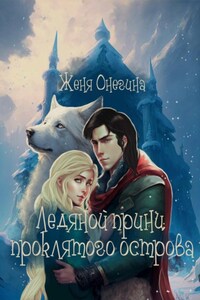Часть 1. Хосров. Поющее тело мая
«Жизнь это сон, где любовь одно из сновидений.»
(Клод Лелуш «And now…ladies and gentlemen»)
У меня острое ощущение бреда вокруг.
Тишины и того, что это все мне снится, а шипение радио в ушах, когда на самом деле радио рядом нет, тоже своего рода слуховая галлюцинация.
Я – закончилась.
Я – истощилась.
Меня – нет.
Третья часть романа Боулза «The sheltering sky» называется «Небо» и начинается словами Кафки: «Начиная с определенной точки возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь»
У меня есть. Сутки, двое чтобы осознать это и начать. Вчера были льдины. Тающий след слабой бесконечности. А за стеной лежит человек, он мне близок и у него инсульт.
Здравствуйте.
Я лишена дара затейливого рассказа. Иногда я все-таки что-то повествую, нечто скучное и безынтересное, то есть все нескучное и интересное становится каким-то барахлом, когда я пытаюсь его пересказать и уже на середине пересказа повествуемое оказывается безвкусным, и мне быстрее хочется прекратить этот серый поток слов изо рта.
Скучно. Говорить всегда скучно. Когда я пишу, я такая, какая есть.
Подойти к той самой точке мне никак не удавалось, хоть я и трезво представляла, что это такое, и называлось это нечто странным словом свобода. От всего – условностей, книг, знания и канонов, работодателей и денег, мнения и оценки. Я была растением в палисаднике, а жизнь – за оградой. Может, там был такой же палисадник, но через стекло, с другой его стороны, а разбить это стекло я все никак не решалась. И я себя спрашивала настолько часто, насколько могла – чего ты боишься? Одиночества? Нет, ты всю жизнь одна и не тяготишься этим. Трудностей? Нет, не думаю.
Или…
Или того, что за этим стеклом все равно никого не будет.
Я хотела известности, много друзей, чтобы меня любили за то, что я сделала, летать на белых больших самолетах из края в край планеты, иметь красивые туфли и духи, писать книжки и фотографировать мир вокруг, чтобы Terry Gross взяла у меня интервью для программы Fresh Air, и были светские рауты, как те, которые время от времени устраивают в Гарварде в красивых особняках с шампанским.
Но это было ДО стекла, это был все еще палисадник и палисадниковые мечты. А по ту сторону были безлюдная пустыня, ветер, гнавший перекати-поле по пыльной дороге, скрипящие ставни домов и бесконечная вода до горизонта.
Меня там никто не ждал, но я знала, что рано или поздно я должна разбить стекло, разделявшее две жизни одного человеческого существа и обрести то состояние, с которого возвращение невозможно.
Его просто нет. Потому что сзади ничего не будет.
В конце ХХ века изобрели Интернет и тысячи одиноких сердец ринулись туда в поисках своих половинок. Я не была одиноким сердцем, скорее наоборот, но интуитивно чувствуя всю трагичность собственного сердечного благополучия для искусства, истины и некоего предназначения (которое хоть и не проявляло себя, но, если приложить достаточно фантазии, ощущалось) с собственным личным удобством сражалась, протаптывая узкие тропинки в Сети за руку с грустными, потерянными подружками.
…как вам объяснить состояние, когда должно прийти счастье? Именно счастье, не обида и не подарок в виде красивого, интересного и завораживающего молодого человека.
Oно подкрадывается мягко – сначала поют и щебечут травы, реки, земля в весенней суматошной эйфории, потом снятся странные сны и караваны, упрямо шагающие по песку в каменистый пыльный полдень. Всегда безлюдный. И узкие глинобитные улицы, и темные женщины с маслянистыми жгучими глазами.
Они поют протяжным голосом бесконечные песни.
Песни моря другие, но они похожи на песни песка тем, что человек в них ничтожен.
И они пели – очень часто во сне.
Я листала американский клип-арт с фотографиями и знала точно, что в эти белые запыленные камни я исчезну когда-нибудь. На пароходе из Стамбула, на верблюде из Дамаска или Александрии, но как только я смогу разбить это проклятое стекло, отделяющее меня от моей же жизни, я уеду туда. Генри Миллер путешествовал по Греции, Лоуренс Даррелл жил в Александрии, Боулс и Берроуз – в Алжире и Марокко. Мне хотелось за ними – тонкой струйкой спрятавшись в саквояже и не дыша: лишь раз увидеть восход в Сахаре и развалины храмов огнепоклонцев.
Прикоснуться к земле длинноволосых и воинственных царей.
Амазонки жили севернее – на земле Киммерии, в степях, скакали на длинноногих (или коротконогих) ретивых лошадках. Мне же хотелось все южнее и южнее, когда солнце уже печет неистерпимо даже утром, а песни становятся все более протяжными.
И на Восток. Туда, где Кавказ обрывается Иранским нагорьем, а Тигр и Ефрат разрезают иссушенную землю стрелами воды. Туда, где шел один из шелковых путей и где земля – серая и сухая, а деревья – изможденные.
– Господи, зачем оно тебе?
– Не знаю.
– И как его звали?
– Хосров.
– Как, как?
– Не знаю, не помню, да и не знала…
Замирание сердца
Тихий.
Далекий.
Беспокойные утра.
Ночи в тревоге.
Грустноглазое солнце
Светило равнины
Чьи-то чертоги
Из серебра и глины.
Здравствуй, далекий
Все прахом станет
Ложь не обманет
Измены не будет
Меж нами
Лисой проскользнувшей.
Чисты перед богом
И если желали кого-то
То только самих себя.
Просто шепнуть прощай
Дать тишине на чай
И успокоить голос.
Ветреными ночами
Свидетелей не было с нами
И сами не стали ими
Бредущими по пустыне
Синей любви
Вдвоем.
А за скалой каньон
И этой пропастью чувства
Нам не спуститься
Чувствуешь, я миллионом
Искринок
И звезд
Окружила твой сон.
Переросла любовью.
И проросла в весенний
Пахнущий чернозем
Стать его хлебом и солью
И в этом мире дольнем
Была я твоим застольем
И ты причащался мною
А вера была вином.
Прощай.
Мы прочли друг друга
В мечтах.
И пьянящая вьюга
Цветущих пыльцой садов
Покровом была нам
Хосров.
– Что такое Хосров?
– Имя какого-то из персидских царей, из Сасанидов, но все это нисколько не важно…
Это был темный человек, совпавший с чем-то выше – с неким кибер-амуром, пролетавшим по компьютерным просторам и зацепившим в ночном эфире два одиночества.
Ее и Его, даже не мое.
…мир то набегал волной, то отступал и ты проваливался в липкий и странный туман одиночества. И ты ненавидел все в этот момент за то, что из года в год обречен на это – на царапанье по стене, по бумаге, на шлепание клавишами от бессмысленности и неумения рассказать все, что чувствуешь миру.
От немоты, от потерянности, от подвешенности под потолком, где друзья – далеки, а люди – не те…
Все не те, не такие.
С детства, с первого осознания ты учился быть только с собой, ибо те, кто тебя знал оставались, но ненадолго. Тех, кто любил, было еще меньше. Их почти не было. И стены становились другими, и птицы ходили по пятам, неся какую-то чушь, и путь весеннего ростка из-под земли был слышим, как только смолкали звуки.