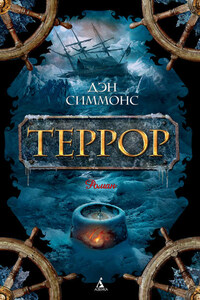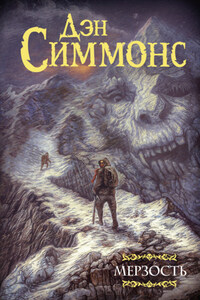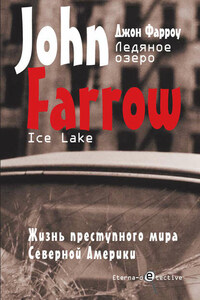В конце концов он сделал это 2 июля 1961 года в штате Айдахо, в своем новом доме с видом на высокие горные вершины, на реку, протекавшую в долине, и на кладбище, где были похоронены его друзья. Впрочем, подозреваю, этот дом ничего для него не значил.
Когда эта весть достигла моих ушей, я находился на Кубе.
Я вижу в этом некую иронию, поскольку не возвращался на Кубу в течение девятнадцати лет, миновавших с тех пор, когда я расстался с Хемингуэем. Еще более странным мне кажется тот факт, что 2 июля 1961 года мне исполнилось сорок пять лет. Весь этот день я ходил за низкорослым грязным мужчиной по грязным барам, а потом провел за рулем всю ночь, продолжая следить за ним – он проехал триста пятьдесят километров по необитаемым джунглям, мимо бронированного локомотива в Санта-Кларе, которым отмечен поворот на Ремедиос. Прежде чем покончить дела с грязным коротышкой, я провел в тростниковых полях и пальмовых зарослях еще день и ночь и впервые услышал радио только в отеле «Перла» в Санта-Кларе, где остановился промочить горло. Из динамика неслась печальная, едва ли не похоронная музыка, но я не обратил на нее внимания и ни с кем не разговаривал. О смерти Хемингуэя я узнал только вечером, по возвращении в Гавану, когда выписывался из гостиницы в здании, где находилось посольство США – до того, как несколько месяцев назад, в январе, Кастро вышвырнул из страны американцев.
– Вы слышали, сеньор? – произнес семидесятилетний носильщик, ставя мои сумки на тротуар.
– О чем? – спросил я. Старик знал обо мне только то, что я – делец из Колумбии, и если у него было для меня личное сообщение, это не сулило ничего хорошего.
– Писатель умер, – сказал старик. Его впалые щеки, покрытые седой щетиной, судорожно дрогнули.
– Какой писатель? – спросил я, глядя на часы. Мне нужно было успеть на самолет, отправлявшийся в восемь вечера.
– Сеньор Папа, – ответил носильщик.
Я замер, держа запястье у лица. Несколько мгновений мне было трудно сосредоточить взгляд на циферблате.
– Хемингуэй? – спросил я.
– Да, – сказал старик, продолжая кивать и после того, как произнес последнее слово.
– Как это произошло? – спросил я.
– Выстрел в голову, – объяснил старик. – Он сделал это собственной рукой.
«Еще бы», – подумал я и спросил:
– Когда?
– Два дня назад, – ответил старик и тяжело вздохнул.
Я почувствовал запах рома. – В Соединенных Штатах, – добавил он таким тоном, будто это все объясняло.
– Sic transit hijo de puta, – пробормотал я себе под нос.
В пристойном переводе это означало примерно следующее:
«Так уходит сын шлюхи».
Голова старика на морщинистой шее резко дернулась назад, словно ему закатили оплеуху. Его робкие слезящиеся глаза внезапно полыхнули гневом, граничащим с ненавистью.
Он поставил мой багаж на пол вестибюля, словно освобождая руки для драки. Я сообразил, что он, должно быть, хорошо знал Хемингуэя.
Я поднял правую руку, выставив ладонь вперед.
– Все в порядке, – сказал я. – Это слова самого писателя. Хемингуэй произнес их, когда во время Великой революции с острова прогнали Батисту.
Носильщик кивнул, но его глаза продолжали сердито сверкать. Я дал ему два песо и зашагал прочь, оставив вещи у двери.
Первым моим побуждением было разыскать автомобиль, на котором я ездил и который бросил на улице неподалеку от Старого города, и отправиться к финке. Но тут же понял, что это не слишком удачная мысль. Я должен был добраться до аэропорта и как можно быстрее покинуть страну, а не шляться по окрестностям, словно какой-нибудь турист. Вдобавок финку конфисковало революционное правительство, и теперь ее охраняли солдаты.
«Что они там охраняют?» – подумал я. Тысячи книг, которые он не смог вывезти из страны? Дюжины его кошек? Его винтовки, ружья и охотничьи трофеи? Его яхту? Кстати, где сейчас находится «Пилар»? Все еще на приколе у Кохимара или служит государству?
Как бы то ни было, я точно знал, что весь этот год поместье Хемингуэя служило лагерем для сирот и бывших попрошаек, которых теперь обучали военному делу. Правда, в Гаване ходили слухи, что этих оборванных вояк не пускали в дом – они жили в палатках рядом с теннисными кортами, но их команданте спал во флигеле для гостей, наверняка на той самой кровати, которая была моей, когда мы руководили оттуда «Хитрым делом». Под подкладкой моего костюма хранился негатив, на котором была ясно запечатлена противовоздушная батарея, установленная Фиделем в патио дома Стейнхарта на холме по соседству с фермой писателя, – шестнадцать советских стомиллиметровых зенитных орудий для обороны Гаваны с позиций на высотах. К ним были приставлены восемьдесят семь кубинских артиллеристов и шесть русских советников.
Нет, путь в финку мне заказан. По крайней мере, сегодняшним жарким летним вечером.
Я прошагал одиннадцать кварталов по улице Обиспо до «Флоридиты». Уже теперь, всего год спустя после революции, улицы казались вымершими, по сравнению с плотными потоками машин и пешеходов, которые я помню по началу 40-х.
Из бара вышли четыре советских офицера. Они были изрядно пьяны и орали песни. Кубинцы, оказавшиеся в эту минуту на улице Обиспо – юноши в белых рубашках и миловидные девушки в коротких юбках, – лишь отводили взгляд, когда русские стали мочиться при людях. Даже проститутки не приближались к ним.
Я знал, что «Флоридита» также отошла в собственность государства, но сегодня вечером бар работал. Я слышал, что в 50-х там установили кондиционеры, но либо мой информатор был введен в заблуждение, либо после революции охлаждение воздуха стало непозволительной роскошью, потому что все жалюзи были подняты, а двери открыты нараспашку – точь-в-точь, как в те времена, когда мы выпивали здесь с Хемингуэем.
Разумеется, я не стал входить туда. Я глубже надвинул свою «федору» и, проходя мимо бара, смотрел в другую сторону, лишь однажды заглянув внутрь, когда мое лицо оказалось в тени.
Любимый табурет Хемингуэя у дальнего левого края стойки рядом со стеной был свободен. Ничего странного. Нынешний хозяин бара – государство – распорядился, чтобы на нем никто не сидел. Над пустым табуретом, превращенным в мемориал, красовался бюст писателя – темный, бесформенный и аляповатый. Я слышал, что поклонники преподнесли его Хемингуэю, после того как он получил Нобелевскую премию за свою пошлую рыбацкую повесть. Бармен – не Константе Рибаилахия, мой знакомый «кантинеро», а более молодой мужчина средних лет – надраивал стойку напротив табурета, как будто в любую минуту ожидал возвращения писателя из морского похода.
Дойдя до узкой улочки О'Рили, я повернул назад к отелю.
– О господи, – прошептал я, смахивая пот из-под шляпной ленты. Того и гляди кубинцы сделают Хемингуэя кем-то вроде коммунистического святого. Я и раньше встречал такое в католических странах после успешных марксистских переворотов. Верующих изгоняли из храмов, но им по-прежнему были нужны эти чертовы «santos». Социалистические режимы повсеместно старались угодить им, возводя бюсты Маркса, расписывая стены гигантскими изображениями Фиделя и развешивая плакаты с портретами Че Гевары. Я улыбнулся, представив Хемингуэя в роли главного святого Гаваны, и торопливо пересек улицу, чтобы не попасть под колеса колонны русских военных машин.