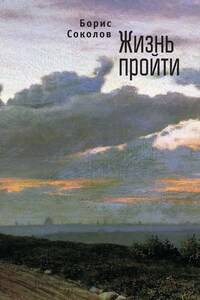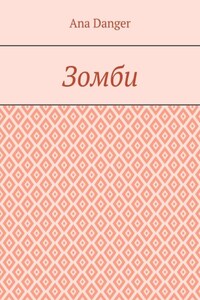Происшествие это совпало со знаменитым указом Хрущева об усилении борьбы с хулиганством, которое, как известно, не очень-то указов слушается.
А ведь предполагалось, казалось бы, совершенно мирное событие: наш проектный институт собирался отметить свой юбилей и для празднования снял помещение поблизости – в одной из средних школ на другой стороне Фонтанки. Как положено, вечер был запланирован с торжественной частью, последующим скромным банкетом и танцами.
Всё развивалось по банальному сценарию. Вместе с другими сотрудниками института – из тех, что помоложе – я был вовлечен в группу, которая должна была обеспечивать порядок на празднике. Но несмотря на то, что вход был организован по пропускам, на вечер просочилась-таки местная шпана и принялась вести себя на танцах шумно и некрасиво. К этому времени возложенные на меня задачи были исполнены и формально я был уже свободен от нарукавной повязки, но не вмешаться не мог и – в паре с дежурившим дружинником – вывел вон особо разошедшегося молодца, причём тот не сильно артачился и дал себя увести. И праздник продолжался: я танцевал с одной милой женщиной с цыганистыми глазами и даже вызвался проводить её до дому.
Когда выходили наружу, перед дамой своей я растворил дверь, пропустил её вперёд и последовал за ней. И здесь, у полутёмного подъезда, кто-то крепко хватил меня по затылку. Оглушён я не был, но потерял равновесие и упал на асфальт. Как по команде, откуда-то ко мне кинулись несколько фигур и принялись бить ногами. Огнём ожгло мне висок, и тут же я успел закрыть руками лицо и голову. Раздался истошный крик моей дамы – и, как видно, ещё не поднаторевшая в подобных подвигах шпана бросилась наутёк. Мне повезло: отважные ребятки не успели как следует выполнить задуманное. В гудящей голове моей некстати ворохнулась мысль: в послевоенные годы в нашем посёлке во время мальчишеских драк действовал неписаный, но неизменно соблюдавшийся, своеобразный кодекс чести: биться открыто – не нападать исподтишка; биться один на один, то есть нельзя, чтоб несколько человек били одного; лежачего не бить ничем, тем более – ногами. Тогда нарушение этих правил считалось презренным, позорным, а теперь вот, выходило, приобщился я к веянию прогресса…
Когда поднялся на ноги, кровь заливала мне правый глаз, и Татьяна, спасительница моя, совершила проводы наоборот: это она довела меня до своего дома (благо, что жила неподалёку), притащила к себе на кухню, остановила кровь перекисью и чем-то залепила висок. Рана была пустяковая: слава Богу, удар ботинка пришелся вскользь и пробитой оказалась только кожа. Поламывало в правом плече, саднила рука и отдавало в районе бедра – но это были мелочи жизни. Что и говорить – в такой ситуации очень легко отделался.
Я осторожно умылся холодной водой, но это мало помогло – всё лицо горело, будто обожжённое. Я бормотал извинения, порывался тут же уйти. «Нет и нет! – было заявлено мне категорически. – Вон платок весь в крови! Надо подождать немного, чаю попьём, а тогда уж…» Сказав это, хозяйка скрылась в ванной с моим, почти насквозь промокшим, носовым платком.
Я сидел на диване в гостиной. Хоть и не было никакой моей вины в происшедшем, чувствовал я себя от всей этой истории отвратительно. Да кому же, скажите на милость, улыбается роль жертвы в каком бы то ни было инциденте?..
Из соседней комнаты послышался шум, открылась дверь – на пороге явился мальчишка в ночной сорочке и, остановясь в дверях, мигая глазами на свет, удивлённо оглядел меня с головы до ног. Это был сын хозяйки (у него были очень похожие – такие же черные и быстрые – глаза) и ему, наверно, было лет шесть. Какое-то время он молча изучал меня, потом спросил:
– Что это у тебя?
– Да так… немного поцарапался.
– А ты кто?
– Да как тебе сказать?.. Человек вроде, – улыбаясь ответил я.
– Знаю, что человек. Но ты не мой папа? Ты просто дядя?
Я растерялся.
– Ну… должно быть, я просто дядя.
– Правильно. Я хотел тебя проверить.– (смешное картавое «р», словно камешек, перекатывалось у него во рту).
– Проверить? – ошарашенно переспросил я.
– Ага. Я знаю: мой папа уехал далеко и скоро не вернётся.
Я вгляделся в мальчишку. В глазах его не было заметно особой печали: видно, всё это он слышал давно, повторял не раз и подобный сюжет был для него чем-то вроде сказки.
– А разве я… А ты помнишь его, папу-то?
– Нет. Я тогда был маленький.
– Вот как… – у меня едва не сорвались с губ слова утешения, но тут в комнату вошла Татьяна.
– Ого! Зачем ты здесь? Почему не спишь?
– Я проснулся и не хочу спать, мама.
– Нет и нет, милый. Ты ещё маленький и тебе надо много спать. Спать, спать, заинька…
И с такой невыразимой нежностью, с такой лаской женщина положила ладонь на голову гнома в ночной рубашонке, уводя его в спальню, что любой бы на моём месте позавидовал бы мальчонке и пожалел бы о том, что никогда уже ему самому не быть маленьким…
Надо сказать, что незадолго до этого случая приключилась со мной некая странность. Жил я в Апраксином переулке – буквально в нескольких минутах хотьбы от института и очень радовался такому экономию времени, неслыханному для большого города. И вот однажды и не заметил, как дошёл до жизни такой: каждый день перед концом работы начинаю с нетерпением поглядывать на часы и поторапливать время, чтобы, дождавшись звонка, примчаться в свою каморку, спрятанную в полуподвале старого, мрачного дома (немало таких же ветеранов, похожих друг на друга, сохранилось в этом районе города – тесно лепятся они на несколько кварталов, от Садовой до Фонтанки).
Вот и теперь: сегодня суббота и нетерпение моё удвоилось. Впереди до воскресного вечера целые сутки – моё время, которое у меня не отнимет никто.
От щербатых ступенек, ведущих в нашу контору, – всего-то полсотни шагов под арку, затем надо пересечь неширокую мостовую переулка, тут же, никуда не сворачивая, войти во двор – и вот она, узкая дверь под пожарной лестницей (в былые времена она вела в дворницкую).
В переулке неподвижно, словно дырявое бельё, висит холодный туман. Мне зябко, я дрожу на ходу: встречные, постоянно меняющие очертания, влажные клочья, кажется, пронизывают насквозь, будто я бесплотен.
В келье своей я запираюсь на крюк и сажусь к столу. Подоконник единственного окошка расположен вровень с самым низом глухого дворового колодца и на уровне моих глаз. Там, за стеклом, на голом, пустом асфальте беззвучно топчется туман.
Я достаю тетрадь и забываю обо всём на свете. В голове моей разворачиваются удивительные картины, загораются и гаснут видения, за спиной словно шепчутся какие-то тени; поток слов водопадом обрушивается на меня, и я смутно чувствую, что должен обуздать эту мощную стихию – подчинить, приручить…