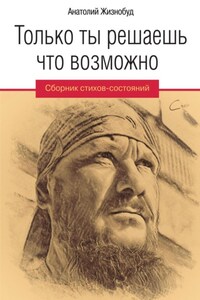Алексей Воскресенский - Колышутся на ветру

| Название: | Колышутся на ветру |
| Автор: | Алексей Воскресенский |
| Жанр: | Современная русская литература |
| Серии: | Нет данных |
| ISBN: | Нет данных |
| Год: | Не установлен |
О чем книга "Колышутся на ветру"
Что хранят в себе сны? Какие корни и крылья ограничивают и освобождают? Какие вопросы ставит перед нами Дорога? Какие случайности неслучайны? И где в этом всём Бог и Любовь?Перед Вами – история девочки, девушки, женщины, полная драмы и преодоления.Перед Вами – судьбы тех, кто связан с ней.От искусства до сумасшествия, от полёта до падения, от смерти к новой жизни…Так ли легко быть или стать лишь травой, колышущейся на ветру? Книга содержит нецензурную брань.
Бесплатно читать онлайн Колышутся на ветру
Книга заблокирована.
С этой книгой читают