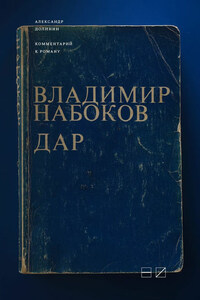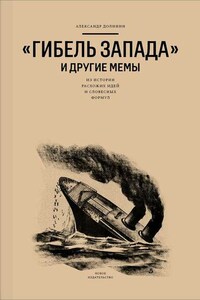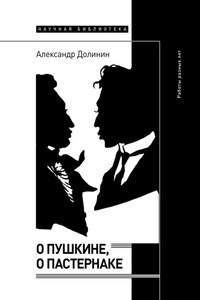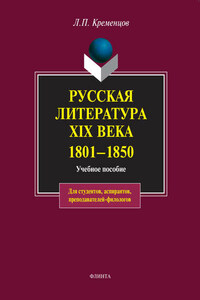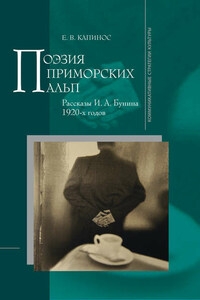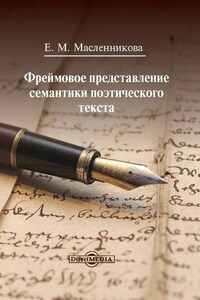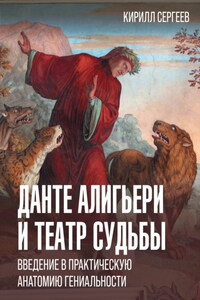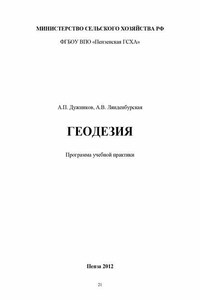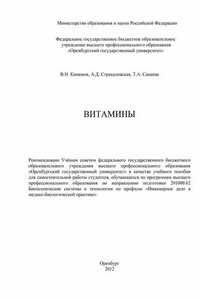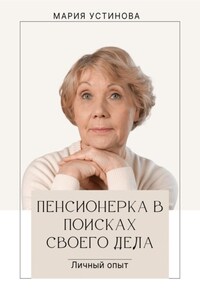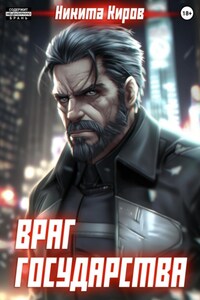Я начал разгадывать загадки «Дара» в 1989 году, когда мой добрый приятель, редактор «Радуги» С. Б. Белов заказал мне комментарии к нетривиальному двуязычному «Избранному» Набокова, куда роман вошел вместе с «Пниным», рассказами и стихами.[1] Объем комментариев был строго ограничен, кое-что пришлось выкинуть, многое не удалось найти, но сама работа показалась мне необычайно увлекательной. Возможность продолжить ее представилась десять лет спустя, когда в петербургском издательстве «Симпозиум» стало выходить пятитомное собрание сочинений Набокова русского периода. Для него я сделал новые комментарии к «Дару», намного больше и лучше прежних, но и они не были полными и безошибочными.[2] Наконец, еще через десять лет третий вариант моих комментариев вошел во второй том полного собрания романов Набокова на французском языке, издаваемого в так называемой «Библиотеке Плеяды».[3] Перевод «Дара» для этого престижного издания делался не с русского оригинала, а с авторизованного английского перевода, так что, работая над комментариями в содружестве с переводчиком романа, я смог проследить существенные разночтения между двумя его версиями, оригинальной и переводной.
Многолетнее изучение «Дара» убедило меня в том, что роман требует не только сопроводительного, но и отдельного монографического комментария, поскольку в нем насчитывается более тысячи мест, требующих пояснения. Ориентиром мне служили непревзойденные образцы жанра – комментарии к «Евгению Онегину» Ю. М. Лотмана, к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» – Ю. К. Щеглова, к «Улиссу» Джойса – Дона Гиффорда (Don Gifford) при участии Роберта Сайдмана (Robert J. Seidman). Последний труд имеет занятный эпиграф – слова, якобы сказанные Джойсом французскому переводчику «Улисса» в ответ на просьбу помочь тому разобраться в романе: «I’ve put in so many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for centuries arguing over what I meant, and that’s the only way of insuring one’s immortality [Я всадил туда так много загадок и головоломок, что профессорам хватит пищи для споров о том, что я имел в виду, на несколько веков, и это единственный способ обеспечить себе бессмертие (англ.)]». У Набокова, который сравнивал «произведения писательского искусства» с шахматными задачами и говорил, что настоящая борьба в них ведется не между героями романа, а между романистом и читателем (Набоков 1999–2000: V, 320–321), загадок и головоломок тоже достанет если не на несколько веков, то по крайней мере лет на сто, и решить многие из них нельзя без знания «правил игры» и другой в ряде случаев труднодоступной информации. В нескольких моих комментариях желающие найдут необходимые подсказки, которые помогут им одержать «победу» над романистом. При этом я оставил без пояснений те загадки, для решения которых не требуются специальные сведения, чтобы не лишать читателя удовольствия самому догадаться, что такое «объявленьице – о расплыве синеватой собаки» (193)[4] или «лист газеты с вырезанным в Европу окном» (247), на какое выражение и чью квартиру намекает название вымышленного литературного альманаха «Башня» (526) и где в финале романа находятся три связки ключей от квартиры Щеголевых. Не поясняются в комментариях и общеизвестные географические названия, мифологические и исторические имена, которые легко можно отыскать в справочниках и словарях, а также в электронной сети.
Кроме загадок, придуманных самим Набоковым, комментарий дает ключи и к загадкам другого рода – таким, которые, по определению В. Э. Вацуро, «созданы не писателем, а временем» (Вацуро 1994: 4). Как неоднократно указывали лучшие мастера комментирования М. Л. Гаспаров и Р. Д. Тименчик, литературные произведения прошлого писались не нами и не для нас и мы не имеем права проецировать на них наши сегодняшние представления и знания (см.: Тименчик 2008: 589). Для восстановления историко-литературных, историко-культурных, историко-лингвистических и собственно исторических контекстов, в которых текст создавался и функционировал, часто требуется научный поиск – в архивах, в старых газетах и журналах, в сочинениях, воспоминаниях и письмах современников, и в моем комментарии читатель найдет результаты подобных разысканий, на которые иногда уходят месяцы или даже годы. Только самонадеянные профаны, засоряющие ноосферу своими невежественными интерпретациями литературных текстов, могут полагать, что составление комментариев – это устаревшее, никому не нужное искусство вроде каллиграфии, хотя им-то грамотные комментарии были бы нужнее всего. Любая интерпретация старого текста, не опирающаяся на подробный профессиональный комментарий, неверна по определению, и это закон, который не знает исключений.
Набоковскому «Дару» в прошлом году исполнилось 80 лет, и вполне естественно, что многое в нем – от быта и топонимики веймарского Берлина до актуальных в 1930-е годы полемических выпадов против авторитетных современников и их идей – со временем превратилось в «темные места», требующие разъяснений. Еще в 1962 году, в предисловии к английскому переводу романа, Набоков писал, что изображенного в романе мира русских интеллигентов-эмигрантов больше нет и его обитатели кажутся ныне каким-то мифическим племенем, «чьи иероглифы» он извлекает теперь «из праха пустыни» (Набоков 1997: 50). В комментарии я старался расшифровать как можно больше подобных созданных временем «иероглифов», которые когда-то были понятными буквами.
Существуют общие для всех формальные правила комментирования, которые я стремился соблюдать, памятуя и о бритве Оккама, но не существует единого метода, который был бы применим ко всем комментируемым произведениям. Каждый сложный текст задает нам свои собственные вопросы, а его жанр, поэтика, стиль, темы, мотивы, подтексты сами подсказывают, где и каким способом лучше искать ответы на них. Состав комментария к «Дару» обусловлен в первую очередь тем, что вся четвертая глава романа и половина второй главы построены как искусные коллажи из цитат и перифраз большого количества документальных источников, многие из которых без соответствующих пояснений можно легко принять за произвольный авторский вымысел. Почти все эти источники теперь установлены, и любознательный читатель получает возможность узнать, говоря словами романа, «прилежно ли автор держится исторической правды» (385). При цитировании источников в большинстве случаев я пользовался теми изданиями, которые были доступны Набокову.[5]
Специфика «Дара» заключается еще и в том, что чрезвычайно важную роль в нем играют экскурсы в две области знаний – в историю русской литературы и в лепидоптерологию, для понимания которых нынешней культурной энциклопедии в большинстве случаев недостаточно. По точному наблюдению одного из первых исследователей «Дара» С. С. Давыдова, развитие героя романа как художника «похоже на тот путь, который проделан русской литературой: от поэзии „золотого века“ к прозе 1830-х годов, через эпоху Гоголя и Белинского к утилитарному „железному веку“ Чернышевского, в „серебряный век“ символизма и акмеизма, а затем в „чугунный век“ соцреализма на родине и к современной литературе в изгнании. Чтобы стать писателем, Федор должен отделить на этом пути истинных отцов и наставников от претендентов и самозванцев»