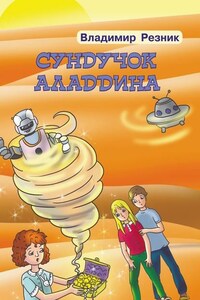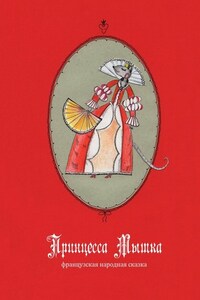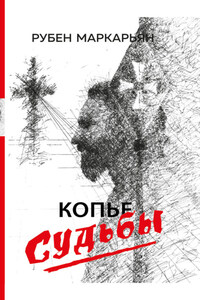За порогом открывалось прямоугольное пространство, теплое после зимней ночной капели и пронизанное оранжево-коричневым светом, больше напоминавшим пыль. В нем царила полная неразбериха, по форме оно напоминало домик, каким его на своих рисунках изображают дети. В тусклых лучах, сочившихся сквозь отверстия, пробитые в ведре, наполненном пылавшими угольками и накрытом согнутой полукругом жестянкой, смутно проглядывали коричневые, поблескивавшие кое-где латунью конечности шести человек, разбившихся попарно. Двое сидевших на полу у жаровни были, вероятно, не самых высоких чинов; еще четверо, по двое с каждой стороны хибары, склонились над столами в позах, свидетельствовавших об их полнейшем равнодушии. Со свесов крыши над черным параллелограммом дверного проема без конца капала собиравшаяся там влага – настойчиво, хрустально и ритмично, как музыкальный звук.
Парочка тех, что сидели на корточках у жаровни, – в прошлой жизни они были шахтерами – завели тихую беседу на певучем, едва различимом диалекте. Их монотонные, лишенные всякого воодушевления голоса лились непрекращающимся потоком, будто один рассказывал другому долгие-предолгие истории, которым собеседник внимал, выражая свое одобрение бормотанием, больше напоминавшим хрюканье зверушки…
Вдали словно громыхнул исполинский чайный поднос, заполонил черный круг горизонта своим внушавшим благоговейный трепет голосом и с грохотом обрушился на землю. «Бах! Бах! Бах!» – отозвались хором бесчисленные железные листы. Через минуту утрамбованная земля, служившая в дежурке полом, содрогнулась, барабанные перепонки ушей вдавились внутрь, по вселенной разнесся зычный раскат, жутким эхом набросился на всех этих людей, швырнув одних вправо, других влево, третьих пригнув к столам, и лопнул с таким треском, будто в умиротворенной ночной тиши на огромной площади загорелся подлесок. Когда один из тех, кто сидел у жаровни, пригнул голову, на его губах блеснул свет от огня, отчего они показались невероятно красными и пухлыми, при этом все продолжали говорить и говорить…
Эти два человека, устроившиеся на полу, были шахтеры из Уэльса; один из них родился и вырос в долине Ронты и жениться еще не успел; что же до второго, выходца из Понтарддулайса, то у него была жена, державшая прачечную, и лишь незадолго до войны он перестал спускаться под землю.
Два человека за столом справа от двери служили сержантами-майорами; первый, из Суффолка, заработал в чине сержанта линейного полка шестнадцать лет выслуги и теперь только то и делал, что мечтал об отставке. Второго знали как канадца британского происхождения. В противоположном углу хибары устроились два капитана – один молодой кадровый офицер, родившийся в Шотландии, но воспитанный в Оксфорде; второй, средних лет толстяк, родом из Йоркшира, до этого служил в батальоне ополчения.
Одного из сидевших на полу посыльных одолевала буйная ярость – офицер, командовавший его подразделением, отказался отпустить его домой разобраться, почему жена, продавшая их прачечную, до сих пор не получила с покупателя деньги; второй же думал о домашней скотине. Недавно его девушка, работавшая на ферме в горах за Кайрфилли, написала ему о необычной черно-белой корове голштинской породы, за которой водилось множество странностей. Английский сержант-майор чуть ли не со слезами на глазах сокрушался по поводу вынужденной задержки отправки пополнения, которое теперь сможет выступить не раньше полуночи. Держать вот так людей без дела было неправильно. Им не нравилось ждать сложа руки, не зная, чем себя занять. От этого они проявляли недовольство. Это точно было им не по душе. Англичанин не понимал, с какой стати тыловой интендант не пополнял запас свечей для фонарей с маскировочными шторками. Вскоре им понадобится принести какой-никакой ужин. Интенданту это не понравится. Он начнет в открытую ворчать, но все же распорядится накормить солдат, что порядочно подсократит средства на его счетах. Две тысячи девятьсот девяносто четыре ужина стоимостью полтора пенни каждый. Но держать людей до полуночи не только без дела, но и без ужина ни у кого не было права. Тем более если они, бедолаги, впервые отправлялись на фронт.
Канадский сержант-майор все волновался по поводу записной книжки из свиной кожи, купленной в городе на артиллерийском складе. Он представлял, как будет вытаскивать ее на параде, чтобы представить очередному адъютанту тот или иной доклад. На параде вещица будет выглядеть просто шикарно, когда он, высокий и подтянутый, вытянется в струнку. Но он никак не мог вспомнить, положил записную книжку в вещмешок или нет. При нем ее не было. Канадец ощупал правый и левый нагрудный карманы, потом правый и левый карманы на поясе кителя, а также все карманы висевшей на гвозде шинели, до которой от его стула можно было дотянуться рукой. У него отнюдь не было уверенности в том, что его денщик положил ее вместе с другими вещами, хотя тот и уверял, что положил. Сержант-майора это очень раздражало. Его нынешний бумажник, приобретенный когда-то в Онтарио, порвался и топырился боками, поэтому ему совсем не нравилось вытаскивать его, когда офицеры Британской империи обращались к нему, чтобы уточнить те или иные сведения. Это давало им ложное представление о канадских войсках. Сплошная досада. Как аукционист, сержант-майор соглашался, что такими темпами пополнение прибудет на станцию и погрузится на поезд не раньше половины второго. Но отсутствие уверенности в том, что записная книжка действительно упакована, его очень раздражало. Он представлял, какое замечательное впечатление произведет на параде, когда вытащит ее в ответ на просьбу адъютанта уточнить сведения касательно того или иного рапорта. И понимал, что теперь, когда они оказались во Франции, их адъютантам полагалось быть имперскими офицерами. Это буквально бесило.
Тем, кто собрался в хибаре, каждому по отдельности и всем, взятым вместе, невероятный, сокрушительный грохот открыл невыносимо сокровенное знание. После его смертоносного гула все остальные звуки показались напряженной тишиной, мучительной для ушей, в которых, явственно ощущаясь, бежала кровь. Молодой офицер стремительно вскочил на ноги и схватился за висевший на гвозде пояс с притороченной к нему амуницией. Тот, что постарше, сидевший по другую сторону стола, развалился на стуле, припав на один бок, вытянул руку и стал ее опускать. Он понимал, что его молодой товарищ, офицер старше его по должности, просто выжил из ума. Тот, до смерти измотанный, бросил спутнику еле различимые резкие, оскорбительные слова. Старший заговорил едкими, короткими фразами, тоже неразборчивыми, опуская все ниже над столом руку. Пожилой английский сержант-майор сказал младшему товарищу, что с капитаном Макензи случился очередной приступ безумия, но расслышать его речь не представлялось возможным, и ему это было хорошо известно. Он почувствовал, как в его заботливом, поистине материнском сердце, в этот момент разрывавшемся от жалости к двум тысячам девятистам тридцати четырем питомцам, нарастала потребность распространить, в том числе и на этого офицера, тяготы возложенных на него задач. Поэтому он обратился к канадцу и сказал, что капитан Макензи, на какое-то время спятивший в их присутствии, был лучшим офицером во всей армии его величества. Но теперь решил выставить себя чертовым идиотом. А так лучший офицер армии Его Величества. Не лучше других, а именно самый лучший. Старательный, сообразительный и храбрый, как герой. И чуткий по отношению к своим людям на передовой. Вы даже не поверите… Он смутно чувствовал, что окружать материнской заботой офицера утомительно. Какому-нибудь юному сержанту или младшему капралу, если он сорвется, всегда можно сделать внушение, сипло пробурчав в усы надлежащие слова. Но вот в разговоре с офицером приходилось прибегать к околичностям, а это уже давалось с трудом. Слава богу, второй капитан был человек хладнокровный и заслуживающий всяческого доверия. Как принято говорить, старой, доброй закалки.