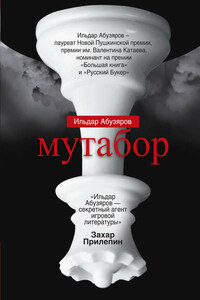Пролог
Промежуток перехода
1
Все, что мне осталось, – это смотреть на людей в метро. Каждый день я спускаюсь в переход между двумя станциями, чтобы смотреть на них, вдохновляться и писать их имена на тонкой рисовой бумаге. Я сажусь в длинном тусклом переходе и вывожу буквы. Отныне я буду сидеть здесь и писать каждый день, подобно тому, как художники пишут свои полотна на пленэре. Только я пишу не картины, а имена – на китайском, арабском, японском, хинди, древнеегипетском. Кто на каком пожелает…
Пусть здесь душно и неудобно, я буду писать, я буду стараться сосредоточиться, стараться выводить маленькие или размашистые буквы на салфетках, так я называю прозрачную рисовую бумагу.
Каждая салфетка, если ее развернуть, размером с плитку керамогранита, которой обложены стены перехода. Они напоминают надгробные плиты с эпитафиями каждой мелькнувшей в моей жизни душе.
Как там надгробный стих на могиле Китса: «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». Написание иероглифов дождевой водой на асфальте или краской на водной глади – та еще медитация. Вода вбирает в себя все, в том числе запахи, время и имена. Йейтс, Элиот, Фрост. Впрочем, мне гораздо больше нравится эпитафия, которая начертана на могиле Уайльда: «Все мы сидим в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Или на могиле Коперника: «Остановивший Солнце – двинувший Землю».
Солнце – звезда, что рисует лучами иероглифы в небе и на земле. Но в моей жизни была звезда и поближе: это ты, Мелисса. И потому я буду чертить твое имя, буду писать его на салфетках, которые набрал в уличных кафе, или в клетках тетрадок, которые купил на распродаже после того, как отзвенел первый звонок, да и второй, и третий звонки уже отзвенели, и тогда уже неприлично метаться и стонать зрителю в зале. А можно только принять правила игры, вжаться, будто в кресло взлетающего лайнера, в сиденье и покорно склонить голову перед представлением, которое проходит без тебя и, в общем-то, если быть до конца честным, не для тебя.
– «Наконец счастлив» – вот идеальная эпитафия! – воскликнул как-то в ответ на мои рассуждения Алистер. – И заметь, написана она на могиле физика и математика, что лишний раз подтверждает, что ученые точнее, лаконичнее, логичнее и, как следствие, умнее вас, гуманоидов.
Сам Алистер – физик и математик. И это он привел меня на кладбище и пристрастил бродить меж могил и читать эпитафии. Он же научил меня каллиграфии и рассказал мне о памятнике, который хотел бы видеть на своей могиле. А еще он приучил меня лежать на чужих могилах и смотреть на звезды глазами мертвых.
2
«Представление!» Вы заметили? Я сказал «представление». Будто я хочу снять с себя всякую ответственность, уклониться от действия и остаться лишь наблюдателем. Будто я хочу жить так, чтобы целыми днями только и делать, что посещать театр или даже театры и созерцать. Будто я хочу жить и после смерти. Будто я хочу жить и после третьего звонка и все так же обладать пятью чувствами. Видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус.
Я вытягиваю руку и касаюсь пятью пальцами чуть шершавой поверхности плитки, на которой было начертано твое имя, стертое со временем ветром, смытое от людских глаз водой. Про эту надпись знаем только я и духи.
Чтобы в подземке у меня была связь с духами, я почтительно снимаю шапку и кладу ее возле себя на пол. Так я прошу о покровительстве, попутно прикидываясь попрошайкой. Иногда прохожие кидают деньги. Они думают, что я слабоумный, перебирающий пустые бумажки, что я здесь ради денег. Некоторые еще считают меня местной достопримечательностью, городским сумасшедшим, бормочущим под нос непонятные слова и странные заклинания. Но на самом деле я не слабоумный. Я кидаю шапку как отмазку от фараонов. Чтобы залетные менты-фараоны-бандиты не думали, что я тут развил особо прибыльный иероглифический бизнес, и не отвели меня за шкирку в налоговую или в участок.
Да, на этот случай рядом со мной лежит моя гитара, и время от времени, если милиция рядом и есть опасность, я делаю вид, что я уличный музыкант-трубадур, который уже собирается покинуть переход. А с уличных музыкантов, с этих юродивых бедолаг – поэтов и бродяг – какой может быть спрос? Нам бы, художникам, себя прокормить! Если шапка лежит, значит, я ничем не торгую. Наоборот, подают и продают мне. Иногда подходят торговцы и предлагают свой товар – ручки с тройным стержнем и супер-пупер чернилами и карандаши со стирающими ластиками на другом конце. Старатели со стирателями – так их здесь называют в шутку. Этими стирателями от старателей я уничтожаю неудавшиеся иероглифы.
3
Удавшиеся иероглифы я отдаю людям за сумму, которую им не жалко за свой заказ. Иностранные туристы или загулявшие бизнесмены жертвуют крупные купюры. Наркоманы или студентки – яблоко или печенье. Бродяги предлагают налить.
Оборотни в погонах забирают у меня половину выручки. Треть мыслей, образов и слов, пришедших мне в голову как стихи, оказываются незаписанными из-за суеты вокруг. Треть из оставшихся выветриваются из памяти. Еще треть оказываются никчемным мусором. Но это и не важно. Придут еще. А эти пусть текут себе прочь.
Десять процентов – вот мой доход и прибыль. Будто я какая ходячая церковь, живущая на подаяния. Впрочем, так оно и есть – я живу на подаяния. Я подсчитал, что за день писанины мне накидывают в шапку в среднем тысячи три-четыре рублей. Треть, как я уже говорил, забирает милиция на горячий чай с пирожками в соседнем киоске. Половину оставшегося присваивает крыша подземки. Их у меня собирает за арендованное место безрукий-безногий Радий на инвалидной коляске.
Арендованное у кого? Воздуха? Пустоты? Улицы? Космоса? Звучит-то как: «крыша подземки»! Пожалуй, так стоило бы назвать поэму, напиши я ее однажды. Но это вряд ли. В день я пишу не больше одной песни-стиха и сотни три имен. Выходит, каждая моя строка стоит около десяти рублей. Меня это и печалит, и радует.
Печалит то, что мой труд так малооплачиваем; радует, что я еще вообще хоть что-то стою. Когда радуюсь, я выдавливаю из себя строку, словно пасту с мелиссой из тюбика на щетку.
Помимо гитары, я ношу с собой ящичек с красками и кистями, с щеткой и гуталином. Я еще ни разу никому не начищал обувь, но однажды мне, возможно, и это предстоит, если только мои иероглифы вдруг перестанут пользоваться спросом и ничего не останется, как замазать белую поверхность гуталином.
Ящик и гитара – мои щит и меч, мои котомка и посох. Для арлекина и трубадура вроде меня – это незаменимые неземные вещи. Ящик мне служит еще стулом или столом, когда я исполняю песни или пишу имена. Я сажусь на него и, как чистильщик обуви, втираю чернила в бумагу, натираю, шлифую, стараясь белую пустую гладь превратить в замаранную, в поверхность хоть с каким-то смыслом и именем.