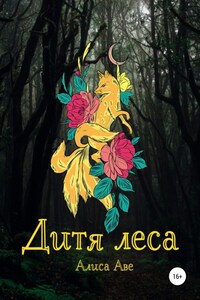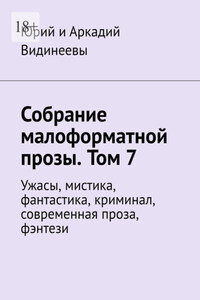Никем не любимый ребёнок перестаёт быть ребёнком: он лишь маленький беззащитный взрослый.
Жильбер Сесброн
Мать одёрнула рваную шторку.
– Сколько можно сидеть без толку? Время тянешь.
Она не заглянула, я увидела пальцы, сжавшие ткань.
Я открыла и закрыла стульчак, спустила воду, не стоило подтверждать её догадку.
– Не переводи воду зря! – зашипела мать. Громыхнули тарелки, она сбила их боком. Я сжалась, сейчас она разразится проклятиями по количеству осколков. Много мелких обидных слов или два-три колющих удара. Мама лишь хмыкнула. То ли кастрюля упала, то ли она решила не ругаться в день церемонии.
Я аккуратно расправила изъеденную временем занавеску, отделяющую туалетную зону от кухонной. Мама стояла ко мне спиной, я почти цепляла носом её шею. За маленькой плитой располагались спальные места, четыре полки. Внизу – мамина, дальше – по мере появления детей: Тома, Макса, Марка и моя верхняя. Перед сном я отковыривала вздувшуюся от сырости краску, просыпалась вся в пыли и плесени. Я сбегала из крохотного пенала нашей комнаты при любом удобном случае, но сегодня предпочла бы забраться на полку и ковырять гнилой потолок, чтобы спрятаться в перегородке между этажами.
– Можно я останусь?
– Все собрались, – мама сделала вид, что не услышала вопроса. – Ты и так заставила нас ждать. Опоздаем – я не стану прикрывать тебя. Распределители не жалуют опозданий. Они лишат нас награды.
– Может, я не подойду.
– Подойдёшь.
Она ответила уверенно и громко, так и не обернувшись. Гремела четырьмя тарелками, кастрюлей и гнутой сковородкой без ручки, а казалось, что повелевала громами.
– Ты знаешь результат?
– Я не могу одна тащить четверых, хватит, устала.
Я просидела за шторой всё утро. Надеялась, что мама поддержит меня. Заглянет за шторку, возьмёт за руки или обнимет, скажет что-нибудь вроде «всё будет хорошо», «ты поможешь семье» или «я люблю тебя», соврёт. И этим даст мне сил. Но она никогда мне не врала. Правду кидала в лоб грязной тряпкой, плевком, насмешкой. Она устала и отдала меня распределителям, вот откуда уверенность, что я пройду.
Я поспешно обулась. Мать сняла самую нижнюю полку, папину. Туда уместилась наша обувь, там же стояла корзина, которую она собиралась наполнить продуктами, когда я пройду распределение. Мы шли мимо распахнутых дверей соседских комнат. На Церемонию собирались заранее, шли семьями. Кто-то считал Церемонию праздником, поводом оставить затхлый, набитый до отказа людьми дом, увидеть сверкающий транспортник, вылетающий из брюха Ковчега, отразиться в глянцевых шлемах распределителей. Другие тряслись возле детей, сдерживая предательские слёзы. Они не знали точно, что ждёт наверху отобранных, тревога и горечь разлуки перевешивали обещанную награду за правильного ребёнка. Мама плыла между соседями, вскинув голову, они расступались перед ней, мама источала радость – она наконец избавится от меня.
Я заняла своё место в колонне детей, выбранных по предварительным анализам. Мама присоединялась к сыновьям. Том помахал мне, Макс одёрнул его, Марк самозабвенно ковырял в носу.
«Они уже простились со мной», – поняла я. Сердце съёжилось забытым огрызком яблока, спряталось за рёбра.
Колонна поползла между домов. Они походили друг на друга, кривобокие близнецы, лишённые кусков стен, крыш, совершенно забывшие, что в окнах были стёкла. Я могла по памяти назвать, в каком доме, на каком этаже отсутствуют ступени лестниц. Беззубые пролёты я перепрыгивала с закрытыми глазами, раскачивала скрипучие перила, подглядывала в щели дверных проёмов. Знала каждого в нашем островке, выросшем грибной колонией посреди изуродованных катаклизмом полей. Сейчас они стояли вдоль улиц, слившись с серыми стенами.
Мы двигались быстро. Отставать не разрешали. Распределители подгоняли нас грубыми окриками, сверялись с данными на прямоугольных штуках – планшетах. Прозрачно-чёрные, чуть вогнутые, планшеты рябили цифрами. Я вытянула шею подсмотреть, что там за цифры. Почти все дети умели читать и писать, родители уделяли внимание базовому образованию, быстро сворачивая его годам к десяти, когда дети достаточно крепли, чтобы помогать взрослым на полях. Мы собирали урожай серых овощей и считали количество гнилых и пригодных к пище, высаживали бледные травы и повторяли буквы в их названиях, копали колодцы и писали пальцем в пыли свои имена. В рядах светящихся цифр из планшетов я ничего не поняла. Один из распределителей заметил, я быстро опустила голову, пока он не замахнулся или не достал шокер.
Из последнего дома в колонну вытолкнули лохматую девочку. Толстые растрёпанные косы колотились по спине, мать подтащила её, сопротивляющуюся, упирающуюся обеими ногами, к концу шеренги, разжала пальцы, умчалась прочь. Я заметила, как она тёрла глаза. Неужели плакала? Женщина встала возле моей мамы. Та посмотрела на неё с отвращением, поменялась местами с Максом. Слёзы в нашей семье считались роскошью и слабостью. Если я плакала, мама грозила не давать мне воды целый день.
Девочка издавала странные звуки, рвалась к матери. Распределители толкали её обратно. Она делала какие-то знаки, заламывала руки, хныкала. Нас разделяло пять или шесть человек. Я узнала её, она заметила меня.
– О нет!
Я так надеялась, что распределение пройдёт Хана. Но моя лучшая подруга стояла в толпе со своими родителями и украдкой помахала мне, когда я проходила мимо. Рядом с ней возвышался Том, он сбежал из-под надзора матери и теперь прижимался к Хане. Все говорили, у них любовь. Прекрасная пара, возможно, дадут здоровое потомство, если доживут до детородного возраста. Почему я решила, что и Хану постигнет моя участь? Мне хотелось разделить страх с кем-то родным и радоваться, что в неизвестности рядом будет плечо друга. Вместо этого в ухо упёрся сопящий нос.
– Я! Я! – весело сообщила лохматая девочка. Её звали Полоумная Магда, вечно сопливая, едва складывающая слова. Вот моё дружеское плечо – Магда. Она забыла о матери, вцепилась в меня и висела до самого ангара, в котором нас ждало завершение Церемонии.
Между собой дети назвали Церемонию час «Ц». Произнести слово целиком не решались, по отсекам ходило суеверие, что произнести полностью значило пройти отбор. Родители не разделяли детстких суеверий, однако старались не говорить страшное слово. Перед тем, как отправить меня к распределителям, мама несколько раз сказала «Церемония». «Умойся, ты должна быть чистой для Церемонии». «Не смотри в глаза распределителям Церемонии, они не терпят наглости». «Главное, молчи. На Церемонии требуют соблюдать тишину». Драла мне волосы щёткой, растерявшей большую часть зубов, и повторяла это проклятое слово вновь и вновь. Для меня «Ц» значило особый стук сердца, будто оно забывало привычный ритм и начинало цыкать, отнимая последние остатки храбрости. Тебя отобрали. Час «Ц» наступил. Теперь ты потерян. И тебя никто не будет искать. Навязчивая мысль, что нас отдают на съедение жуткому монстру, не покидала меня. Я вошла в ангар, стряхивая Магду, оглянулась. Сопровождающие нас взрослые замерли в стороне, сбились в кучу. Глаза их сверкали, внезапно они все стали одним бледным испуганным лицом.