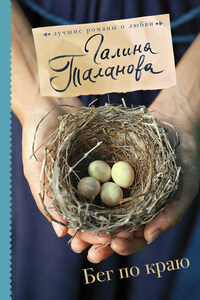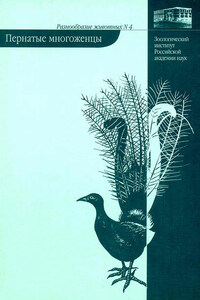1
Она лежала на спине и смотрела в потолок. Спина всё время затекала и болела. Боль порой была страшная. Она вгрызалась в тело неожиданно, когда Олеся пыталась повернуться. Иногда простреливало плечо, иногда поясницу, точно в неё пальнули солью, когда она пыталась набрать зелёных яблок в чужом саду, и ей казалось, что её точно кто-то протыкает острым штыком: бывало штык оставался в плече, а изредка его будто вытаскивали – и боль тогда разливалась по всей спине и груди, просачивалась, как горячий глинтвейн, во все закоулки её тела. Сегодня она лежала на спине – и у неё почти ничего не болело. Только саднил копчик, где серая старческая кожа истончилась так, что под ней стали видны красные вздувшиеся островки сосудов. У неё ещё не было настоящих пролежней, что она видела у своей соседки по комнате. У той было красное мясо в гнойной подливке, что выглядывало из страшной язвы с мохнатыми краями, напоминающее Олесе засохшие, свернувшиеся лепестки какого-то цветка… У неё ничего такого, слава богу, ещё не было. Она даже могла мазать свои ягодицы мазью, что лежала на тумбочке, вставать, опираясь на стул, приставленный к кровати, и везти его по полу, потихоньку передвигаясь на ведро. Соседка, что была ещё в силе, всегда морщилась, будто разжевала лимонную дольку, когда Олеся волокла со скрежетом по полу этот стул, и начинала ругаться на неё матом за это, но что Олеся могла поделать? Не под себя же ходить, санитарку не дозовёшься, да она знала сама, что надо вставать и ходить, пока ещё может. Она пыталась жаловаться заведующей приюта на соседку, что не желает купаться в матерных словах, но та даже выслушивать её не стала. Посмотрела, как сквозь стекло, развернулась – и ушла. Она думала, что у неё здесь отдельная комната будет, когда переезжала в этот пансионат. Но они оказались в комнате вчетвером… Сначала это было самое трудное: не иметь своего угла, а жить, как в казарме, у всех на виду. А когда она почти слегла, то её перевели в другую комнату, где их было уже девять. Три её соседки давно не разговаривали, иногда только шевелили запёкшимися губами, обмётанными белой слизью, похожей на размазанную манную кашу, будто читали про себя молитву… Впрочем, губы одной оставались всегда неподвижны, рот её был широко открыт и напоминал Олесе какую-то пещеру с остатками сталактитов. Эту соседку перевели сюда чуть раньше неё, а до этого они жили вместе в другой комнате. В эту хмурую палату отправляли всех тех, кто уже не вставал совсем. Она очень расстроилась, что её сюда перевели, ведь она-то передвигалась ещё. Санитарка как-то проговорилась ей, что сюда перемещают всех тех, кто уже «не жилец». Она опечалилась, хотя давно уже не хотела жить и ничто больше не задерживало её здесь, кроме воспоминаний.
Кровати тут были железные, на панцирной сетке, совсем такие, на какой она спала в детстве. Хотя почему тут? В той комнате, где она жила сначала, тоже были такие же кровати. Они были даже удобными. Можно было ухватиться за спинку кровати, когда встаёшь…
Больше всего её мучил в этой комнате запах… Комната будто пропиталась каким-то запахом тления и умирания… Интересно, а она сама – как пахнет? Она чувствовала тяжёлый дух в комнате – и почему-то не улавливала своего зловония. Неожиданно всплыло, как из мамы, когда она её отправляла в больницу, в путь, что оказался предпоследним в её жизни, но они не знали ещё тогда этого, полез кал, который она держала в себе почти месяц. Вся квартира тогда пропиталась запахом кала. Она задыхалась от этой вони, но не обращала на неё внимания, настолько сильно было потрясение от возможности потери мамы. Тогда ещё это было только предчувствие, которое она отгоняла, как разгребают прибившуюся ряску и тину на поверхности реки, разводя толщу воды осторожными брезгливыми движениями. Она не знала ещё тогда, что через восемь дней невосполнимая потеря станет реальностью. Мама сидела уже вымытая и одетая в кресле в комнате и вдруг проговорила, морщась: «Ну, и вонь!» Понимала ли она тогда, откуда этот аромат? Вряд ли… Голова была у неё светлая, как бывает у многих творческих натур, никакого склероза, просто отказывали почки – и начиналось отравление организма продуктами собственной жизнедеятельности.
Тогда вообще многое стало неважным. Она не удивилась тому, что у мамы не было никакого стеснения, когда Олесин бывший муж, тоже уже немолодой, помогал Олесе её держать, когда та стояла в тазу перед тем, как отправиться в больницу, – и Олеся из ковшика лила на маму тёплую воду. Мама тогда махнула рукой, вздохнув: «А, теперь уж всё равно… Помогите». Мылилась мама детским шампунем ещё сама, выдавливая его на руку из лимонного флакона с картинкой серого зайчонка. А вот перешагнуть через бортик ванны она уже не могла. Спустя месяц после её смерти Олеся найдёт, разбирая оставшиеся от неё бумаги, письмо ей своего бывшего с выражением восхищения и мамино ответное (черновик или не было послано?) – и тоже не придаст этому значения, пребывая в глубокой печали. Только через несколько лет Олеся задумается о том, не было ли у них когда-то, когда оба были моложе, каких-то более тонких и нежных отношений, чем простая симпатия и взаимопомощь.
Нет, она не пахнет. Ведь не воняла же её бабушка, хотя ей было 92, когда она умерла. И в квартире у неё не пахло. Только апельсиновыми корками, которые она раскладывала на всех полках от моли… Всегда пахло Новым годом, праздником! Бабочки моли совсем не пугались этого запаха Нового года… Летали по квартире, будто их собратья по саду… Грызли бабушкины одеяла, платья и кофточки. Вся любимая бабушкина зелёная кофточка была будто кислотой обрызгана… Наверное, личинки моли представляли, что едят сочную зелёную траву. Ещё бабушка отпугивала моль земляничным мылом, которое было распихано по всем шкафам. Мыло так сильно пахло земляникой, что бабочки, наоборот, слетались на него, представляя, что они не маленькие пыльные и бледные создания, а какая-нибудь настоящая Бархатница Цирцея. Ещё у бабушки в квартире жили маленькие коричневые жуки, похожие на лакированные бусины. Бабушка очень переживала, что у неё жуки в квартире, а Олеся тогда отмахивалась, говорила: «Жуки тебя пугают, а моли не видишь…» Только после смерти бабушки она потом узнает, что это были жуки кожееда. Станет разбирать её сундук со старыми шерстяными одеялами из настоящей верблюжьей шерсти, ветхими занавесками, застиранными до дыр, – но на даче они бы ещё повисели, и новым материалом, пролежавшим не один год, – и на пол посыпятся коричневые червячки… Она вспомнит, что видела этих червячков уже раньше, выползающих из щелей паркета. Соберёт их в баночку и понесёт в СЭС. Там ей и скажут, что это кожеед. Затем она будет ещё долго их травить: сначала сама, рассыпая по квартире испаряющиеся шарики антимоли, а затем вызовет из той же СЭС их сотрудников – и они будут опрыскивать пол аж семь раз («до результата») разными ядовитыми веществами. Будет это продолжаться почти полгода. В квартиру потом целый год не залетит ни одна муха, хотя окна приходилось держать открытыми почти всё лето. Все занавески, одеяла, ткани и рваные простынки, хранившиеся «на пелёнки», что должны были понадобиться перед концом, она безжалостно вынесет на помойку, а сундук оставит как память о той жизни, когда все родные были с ней и она была безоговорочно любима… Сундук был тяжёлый, зелёный, обитый золотистыми планками, с красивой щеколдой-язычком, насаживающейся на душку для замка. Она потом положит в этот сундук подушки и одеяла, перевезённые от мамы, новое постельное бельё ярких современных расцветок с цветами, бабочками и райскими птицами, а также кислородную подушку, оставшуюся после папы. Потом в него добавятся ещё памперсы, купленные для мамы: надо бы было их отдать кому-то нуждающемуся в них, но она не сделала этого не от жадности, а из суеверия, что так они долго ей ещё не понадобятся. Про кислородную подушку она забудет, конечно, и, когда начнёт задыхаться, даже не вспомнит о своём хранилище.