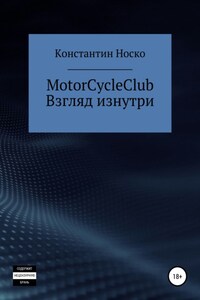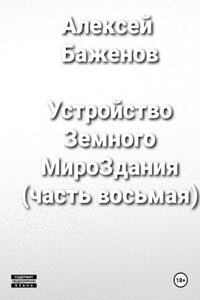Выход из станции метро Октябрьская и Центральный Дом Художника разделяют семь минут ходьбы по слякоти на колючем ветру. Но, стоит только подняться по широким ступеням и пройти через стеклянные двери под напором горячего воздуха, сразу попадаешь в пространство яркого искусственного света и сухого тепла, – внутри музеев не бывает времен года.
– Надо же, как вы похожи! – говорит гардеробщица, переводя взгляд то на меня, то на Веронику.
– Да, мы двойняшки! – привычно отвечает Вероника.
Взамен мокрых курток мы получаем два номерка и идем в первый по ходу зал.
Почти везде мы ходим вместе, так как в нашем случае любой третий – лишний, а идти куда-то одной просто скучно. Мы живем вместе с мамой в центре Москвы в маленькой квартире старого дома на Скаковой, и в этом году заканчиваем девятый класс. Мама любит говорить своим подружкам, что Вероника станет художником, а я – писателем, но мне кажется более реалистичным, что мы обе будем работать кассиршами в гипермаркете, хотя это и грустно. Но, пока не пришло время самим зарабатывать на жизнь, можно ходить по кинотеатрам, концертам и выставочным залам, не особенно задумываясь о будущем.
В Доме Художника два этажа и множество выставок. Пройдя мимо сувенирных лавок, мы медленно прогуливаемся по залам с детскими рисунками, современной деревянной скульптурой, советскими плакатами и живописью на шелке. По ходу попадается большая выставка нижнего белья сталинской эпохи, где демонстрируются черные солдатские трусы, растянутые майки, потертые рейтузы с начесом и мощные застиранные бюстгальтеры. Экспонаты размещены в больших стеклянных кубах и, в целом, повествуют о том, что никакого нижнего белья в ту эпоху практически не было. Мы пожимаем плечами и идем дальше.
В следующем зале экспозиция «Жир и войлок». Стены увешаны большими картинами, оформленными под стекло, они отсвечивают от ламп, и одним взглядом не охватить, что там, за стеклами. Мы стоим перед работой с нелепым названием «Опыт №12», что, очевидно, замещает отсутствие какого-либо названия для однообразной двенадцатой работы подряд. Это не графика, и не живопись, а, скорее, некая абстрактная аппликация. На суд зрителя предлагаются отпечатки жира на какой-то мятой оберточной бумаге, с приклеенными в некоторых местах кусками кустарного войлока. Мы ходим по залу, бегло осматривая картины, которые мало отличаются одна от другой, и возвращаемся к пояснительному плакату, который висит слева от входа на экспозицию.
Оказывается, что автор работ – иностранец, не профессиональный художник, а бывший военный летчик. Его самолет, сбитый или сломавшийся, упал где-то в тундре. Умирающего летчика нашли местные жители-оленеводы, принесли к себе в чум, раздели, намазали жиром и закутали в войлок. Так он пролежал около года, существуя в пространстве между жизнью и смертью, но все-таки выжил, выздоровел, вернулся домой в Европу, и начал создавать такие вот странные картины.
– Видимо, эта пограничное существование в войлоке наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, – говорю я задумчиво.
– Что значит, наложило? – возмущается Вероника, – этот войлок его полностью поменял! Был военный летчик, а стал художник! Или, как там называется тот, кто капает жиром на мятую бумагу?
– Наверное, эти сальные отпечатки должны быть наполнены переживаниями и воспоминаниями, мы должны это почувствовать.
– А, по-моему, это не очень удачная попытка донести свой опыт до людей, – пятна жира, они и есть пятна жира, хоть под стеклом, хоть без стекла!
Незаметно для себя мы опять начинаем обходить зал, разглядывая картины уже с новым знанием. Вероника молчит и хмурится, а через некоторое время спрашивает:
– Как ты думаешь, какой была его жизнь в течение того войлочного года? Время промелькнуло, как одно мгновенье, или, наоборот, было бесконечным путешествием непривязанного к телу сознания?
– Почему непривязанного? Чукчи не позволили его душе расстаться с телом!
– Мне кажется, ему все-таки удалось передать что-то про суть жизни и смерти, только я не могу словами этого выразить. Наверное, и мы также будем год болтаться у бабушки, в жире и войлоке, как этот бедолага.
Почему нас отправляют к черту на кулички? Почему не разрешили остаться дома? Ведь мы уже самостоятельные, и нас двое! Полгода уговоров оставить нас в Москве не дало никакого результата.
– Вы только думаете, что уже взрослые. За вами, девочки, нужен присмотр, да и мне так будет спокойнее, – мама вздыхала, но решения не меняла, – всего один год. Денег подзаработаю немного и вернусь. А вы хоть с бабушкой познакомитесь поближе, – она же вас почти не знает. Школа там такая же, как и здесь – освоитесь!
Говоря по правде, другая школа нас не очень беспокоила, – учиться на тройки можно, где угодно. Но, как же наша квартира на восьмом этаже с видом на ипподром, наш любимый парк? Кинотеатры, кафешки, метро, наконец! Все наше находится здесь, на улице Скаковая, в самом сердце столицы!
Бабушку Машу мы видели пару раз, когда она приезжала в Москву, но это было давно, еще, когда мы жили всей семьей, а с тех пор мама только изредка с ней перезванивалась. Мы не могли понять, будет ли бабушка Маша, на самом деле, рада нашему приезду, или она просто не нашла повода отказаться.
– Пиши письма, Вика, – от Вероники не дождешься! – кричала мама с перрона, посадив нас в плацкартный вагон поезда Москва–Оренбург. Когда поезд тронулся, мы с Вероникой невесело посмотрели друг на друга и вздохнули.
– Что мы там будем делать целый год? – спросила она вполголоса.
Я пожала плечами. Может быть, если прямо сейчас мы могли бы пойти работать кассиршами, то маме не пришлось бы ехать на заработки, а нам, неизвестно, куда.
На следующее утро мы уже были в Бугуруслане, маленьком городке в предгорьях Урала, на родине нашего папы. Бабушка Маша должна была встретить нас на перроне, но опаздывала. Как выяснилось, она думала, что нумерация вагонов будет с головы поезда, а оказалось, что с хвоста. В результате этого недоразумения мы стояли и смотрели, как пустеет перрон, и только минут через пять после того, как все разошлись, к нам подбежала запыхавшаяся пенсионерка в вязаной шапке, бежевом пальтишке и очках в толстой оправе. Она нас обняла, расцеловала, сказала «Вы ж мои хорошие!», и тогда мы поняли, что это и есть наша баба Маша. От вокзала мы шли пешком, и по дороге молчали. Дом бабы Маши находился недалеко, на улице Карла Либкнехта. Мы спросили, кто это такой, она не знала. Ее дом ничем не отличался от прочих, только у калитки стояла старая будка с нарисованным окном.
– Собаки – то у меня давно нет, а эту будку специально не убираю, – объяснила баба Маша, – пусть чужие думают, что во дворе есть собака, так спокойнее.