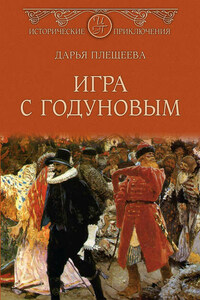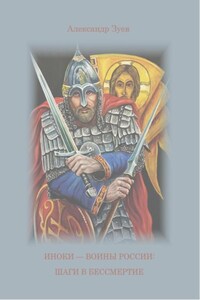В маленькой келье Лирского бегинажа две молодые женщины играли в шахматы. Комната была так тесна, что они сидели на постелях, а доску положили на табурет, которого обе касались коленями.
Был ранний вечер, еще не то время, чтобы готовиться ко сну, однако женщины сидели в простых белых рубахах, стянутых у горла шнурком, с самой скромной оборочкой, и под этими рубахами фламандского полотна, разумеется, ничего не было. Босые ноги женщин стояли на прохладном плиточном полу, рядом с бархатными комнатными туфлями. Наслаждение свободой – свободой от тяжелых платьев с многослойными юбками, от стянутых корсажей, от тягостной обязанности обнажать и пудрить грудь, от узких туфель, от сложных причесок, от румян и белил – царило в келье, однако наслаждение было временным – женщины знали это и старались успеть побольше, дать душе и телу отдых впрок, поскольку неизвестно, когда и как завершится блаженство.
Одна из них была увлечена игрой и сердилась, что подруга невнимательна. Другая больше беспокоилась о своих распущенных влажных волосах, то и дело трогала их, взбивала, накручивала на палец.
– Я так не могу, – сказала любительница шахмат. – Вот же мой конь и ладья угрожают твоему королю, а ты куда смотришь?
– В окошко, милая.
Обе говорили по-французски.
– И что там хорошего, в окошке? Что такого, чего ты еще не разглядела за эти два месяца? Шах и мат!
– Поздравляю, Дениза.
– У нас тут одно развлечение – шахматы, а ты и им пренебрегаешь, – сердито упрекнула Дениза.
– Нет, отчего же? А музыка? Слышишь – и сейчас… я, кажется, помню этот мотет…
Струнные аккорды и пение доносились с канала. А запах цветущего шиповника – прямо из-под окна, где рос огромный куст, весь покрытый пышными цветами. Некоторые уже стали вянуть, но они, кажется, давали самый сильный аромат.
Дениза встала, затворила окно и даже задернула простые полотняные занавески.
– Зачем ты это сделала? – спросила ее подруга. – Думаешь, мне опасно глядеть на белый шиповник? За кого ты меня принимаешь, Дениза?
– Задай этот вопрос кому-нибудь другому, Анриэтта…
И точно – эти женщины достаточно знали друг друга, их дружбе исполнилось одиннадцать лет, и обе прекрасно помнили, как дружба началась, только совершенно не желали воскрешать в памяти прекрасный летний день. Это было бы слишком грустное воспоминание.
Дениза собрала шахматы в мешочек, а доску положила на подоконник.
– Хочешь, я схожу на кухню за ужином? – спросила она.
– Еще рано.
– Ничуть не рано, солнце уже за липой… как странно, Анриэтта, иметь часы и определять время по солнцу и колокольному звону!
– Мы попали туда, где минуты не имеют значения, да и часы, наверно, тоже. Это особенность маленьких городков – спешить некуда… Удивительно, что в Лире выстроили такой огромный бегинаж. Откуда бы тут взялось столько бегинок?
– Может, земля была дешевая? Дешевле, чем в Антверпене? Антверпенский бегинаж – в сущности, один сад за стеной, а в нем домики, а тут – город в городе. И ведь недалеко. Я думаю, пять лье.
– Город старух…
– Но тут нас никто не додумался искать. Два месяца! Сиди, не вставай.
– Должна же я когда-то начать ходить. Я уже почти не хромаю…
– А по лестнице еле всползаешь.
– Нет, наверх – еще ничего, трудно спускаться вниз. Словно кто-то дергает за веревку, натянутую внутри колена. Как ты думаешь, не случится беды, если мы съездим в Антверпен к доктору?
– Не знаю. Как ты собираешься объяснять чужому человеку пулю в своем колене? И можешь ли быть уверена в его молчании? Нам лучше бы добраться до Брюсселя, до господина Сент-Амана.
– А сколько лье до Брюсселя?
Дениза опустила глаза. Карта всей Европы хранилась у нее в голове – со множеством цифр и любопытных подробностей. Да и неудивительно – где только они не побывали вместе, эти связанные нерушимой дружбой ровесницы: худощавая, темноволосая Дениза, с сухим умным и смуглым лицом монахини-испанки, принявшей постриг по доброй воле, и пышная рыжеволосая красавица Анриэтта. Им было сейчас по двадцать семь – не юность, а вполне подходящий возраст для замужества, одна беда – Дениза уже была замужем, хотя супруга не видела очень давно, а ее подруга поклялась, что никогда и ни с кем не повенчается. На то имелись особые причины.
Анриэтта растирала правое колено, заглаживая пальцами шрам, как будто он от этого мог исчезнуть, и думала о том, что два месяца отдыха могут кончиться внезапно: ночной стук в окошко, письмо из Парижа, быстрые сборы, тряские неудобные экипажи, при необходимости – мужской костюм, а необходимость такая возникает довольно часто. Этот костюм более к лицу Денизе – она похожа на молодого человека из почтенного фламандского семейства, по меньшей мере в трех поколениях роднившегося с испанцами, которому обстоятельства помешали стать аббатом. Анриэтта чересчур пышна, ее лицо не по-мужски округло, однако в минуту, когда нужно вытаскивать из ножен клинок или же браться за пистолет, она действует быстрее и решительнее.
Всего два месяца отдыха… два скучных месяца, но и скука иногда бывает блаженством…
– Наверно, двенадцать лье или около того, – сказала Дениза. – Но от Лира, кажется, меньше. Лир – не совсем на брюссельской дороге, а в стороне. Давай рискнем. Об этом никто не узнает. Ночь пути туда, день у Сент-Амана, ночь пути обратно…
– Верхом?
– Я знаю, где достать лошадей и охрану.
– Я не выдержу – ночь в седле не для моего колена.
– Я попробую завтра узнать – может, туда собрался кто-то из местных жителей. Повернись…
Дениза взяла гребень и стала медленно расчесывать подсохшие волосы подруги. Это был ритуал – они каждый день дважды причесывали друг дружку, с утра и на ночь, только не закручивали мелких кудряшек на висках – в приюте бегинок красоваться было не перед нем.
– Хочу в Брюссель… – тихо сказала Анриэтта. – Я больше не могу сидеть в Лире. Эти двенадцать лье кажутся мне сейчас тысячей.
Странным образом Брюссель сам приблизился к ней, хотя она об этом еще не знала. Пока Дениза плела косу Анриэтте, в Лир въехал молодой человек на рыжем коне, который направлялся как раз ко двору бегинок, чтобы передать письмо, – других дел у него в этом городе не было. Разве что посмотреть сам город, о котором он слышал немало хорошего. Молодого человека сопровождал слуга почтенных лет на крепком соловом мерине.
Одеты они были почти одинаково – оба в черных широкополых шляпах без перьев, оба в плащах, сшитых на военный лад, что неудивительно: не так уж давно завершилась Тридцатилетняя война, которая до такой степени ввела в моду все солдатское, что и дамы высшего света стали носить мужские фетровые шляпы и колеты с разрезными рукавами, более всего похожие на мундиры. Коричневый плащ а-ля казак, принадлежавший молодому человеку, имел несметное количество пуговиц, около сотни, чтобы на разный лад соединять между собой его четыре лопасти; сейчас боковые, прикрывавшие рукава черного колета, были пристегнуты к спинке, как полагается всаднику в дороге. Бурый плащ слуги пуговиц имел поменьше, не каждой петле соответствовала пуговичка, да и галун с него был спорот. К тому же молодой человек носил высокие и узкие сапоги, явно вывезенные из Испании, а слуга – башмаки и кожаные гетры.