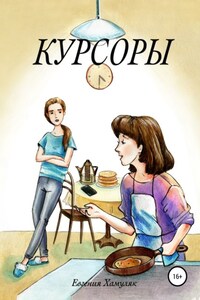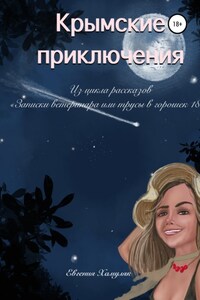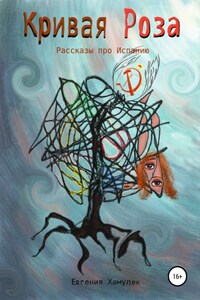Слава Богу, наступил тот день, когда с Олей стало можно разговаривать. Потому что до этого дня, а прошло примерно четыре года «мамино-дочернего карантина», с ней невозможно было не то что ласково перекинуться словами любви, например, назвать красивой, любимой, самой лучшей, но даже приветствия особо не приветствовались. Оля будто по велению чьей-то злой воли превратилась в большого мутировавшего ежика, на любой вопрос выставлявшего щетину и отвечавшего в двух манерах: «да», «нет», «не знаю», «отстань от меня» – доброжелательно и «отстань от меня!», «не знаю!», «мне все равно!», «уйди!», «не буду!» и так далее – недоброжелательно.
А тут целых полчаса мать разговаривала с ней без того, чтоб та обиделась, приняла все на свой счет, убежала в слезах или, скрепя зубами, не разговаривала несколько дней.
Этот день, когда они вдруг заговорили, как раньше, открыто и без невидимых ежевых иголок, держащих на расстоянии, мать сравнивала с днем, когда Оля пошла. Вот она одиннадцать месяцев не ходила, шустро ползала, и если ее просили ходить, водили за ручки, все равно падала на пол, как капля, и уперто ползала до синяков на коленках. Но в один день все изменилось, она просто встала и пошла. Сама. И сейчас: просто заговорила, разрешила себя спрашивать, подолгу разговаривать с ней на отвлеченные темы.
– Какой был чудесный день! – вспоминала мать те первые шажки. – Сладкие мгновения.
Даже сейчас спустя шестнадцать лет сердце заходилось от счастья, радости, умиления и гордости за дочку.
– Пошла в одиннадцать месяцев! – говорила всем мать, будто это была ее заслуга или это являлось каким-то невероятным достижением. Самое удивительное и смешное, что в памяти остались только такие мгновения: первый раз пошла, первый зубик, второй зубик, первый раз постригли волосы, первое слово, первый воздушный поцелуй.
А вот бессонные выматывающие до отчаяния ночи, особенно в период температуры, заложенности носика, тех же самых первых зубок… они забылись. А ведь в тот момент все казалось безвыходным, безнадежным, потерянным, ужасным… Таяли мечты о карьере, спорте, красивой фигуре, маникюре, вылазках с подружками, коротких и дальних путешествиях в неведомые края. Да какой там! Таяли надежды просто выспаться..! Доходило даже пару раз до развода: канула в Лету личная жизнь, а вместе с ней романтика. Тяжелые бессонные ночи оставляли след на настроении, через которое, словно через черные очки, все казалось черным и беспробудным.
Но стоило Оленьке только улыбнуться, обнять маму и папу, поцеловать их по очереди или состроить смешную или грустную рожицу, плюнуть кашкой, пукнуть… Оба взрослых оттаивали, понимая, для чего нужны эти временные трудности, ожидание, превозмогание.
И наверху услышали их молитвы, – наконец, наступил самый сладкий период жизни всех родителей, называемый «от трех до двенадцати». Когда слова «люблю», «милая моя», «зайчик», «солнышко», «дочечка» понимались и принимались, и в ответ получались «мамочка-мамулечка», «я хочу всегда быть с тобой», «я люблю тебя», «ты моя самая лучшая мама на свете». Тот же словарный поток любви лился и в сторону счастливого отца. Пришли времена цирков, зоопарков, представлений, дней рождений, где родители заново познавали этот мир через удивленные глаза своего чада.
А потом как снег на голову – карантин. Серая зона, где не знаешь, что сказать, чтоб не наступила активная фаза противостояния, где ты уже не мамочка, а тот, кто всегда не прав. «Жизнь на минном поле» – так называла про себя этот отрезок жизни мать.
И вот, наконец, счастье – карантин пройден. Оля слышит, видит, чувствует. Еще не понимает, что именно, но, по крайней мере, с ней можно разговаривать. Да не просто на какие-то там темы о горшочках-цветочках, а о мировом заговоре против человечества.
– Мам, да про это каждый идиот знает, что засилье алкогольных, табачных и фармакологических монстров против человечества только растет, – выпучила глаза Оля, желая добавить к сильным словам также невербальную свою возмущенность тем, что мать принижает ее осведомленность насчет планов глобалистов.
– Ну так не поддавайся: не пей, не кури… – развивала мысль мать, тоже слегка повышая невербальные герцы.
– А кто тебе сказал, что я курю или пью? – тоном выше взяла Оля, по привычке тут же ощетинившись.
– Да никто не сказал. Я вообще не про тебя говорю. Точнее, про тебя, но в твоем лице обращаюсь к твоим сверстникам. Если не поддаваться, то их планы не сработают.
– А мы не поддаемся, из моих никто не курит. Ну Антон может иногда, но ему восемнадцать! – понизила голос Оля, давая понять, что в таком возрасте все мальчики хотят попробовать сигареты, и это нормально.
– Так и ты попробуй, если уж очень хочется, – сделала широкий жест свободы мать, зная, что Оля и без ее разрешения это сделает или уже сделала, но было приятно думать, что она хоть отчасти контролирует этот процесс. – Но лишь для опыта. Да и то, скажу тебе честно, я курила, когда мне было шестнадцать и даже семнадцать. И курили мы такую гадость, что тебе даже не снилось. И это бесполезный опыт, поверь, – махнула рукой мать. – Пиво пили и водку и напивались на убой на ужасных этих дискотеках, где не музыка, а трясучка какая-то стояла. Но сейчас я понимаю, что все это было зря. Это как раз те воспоминания, которые я бы легко вычеркнула из своей жизни, – серьезно и грустно сказала мать, чтоб Оля поняла, что она говорит правду. – Знаешь такой тест?
Оля отрицательно помахала головой.
– Не совсем тест, тренинг философский… Вспомни себя несколько лет назад и дай совет себе сегодняшней из прошлого. Но у тебя есть только два слова на это. Два самых важных слова, которые перевернут твою жизнь сейчас.
Оля вспомнила себя несколько лет назад.
– Ну? – подтолкнула ее мать, когда та слишком уж задумалась.
– Не дружи с идиотами. Нет! Не дружи с идиотками! – сверкнула глазами Оля, вспоминая какую-то свою историю.
От этой фразы у матери кольнуло в сердце, потому что она не помнила дочерних конфликтов с подружками того периода, а значит, Оля скрывала от нее свои чувства. Скорее всего, чтобы не беспокоить лишний раз. А все равно было больно, что матери не оказалось рядом, раз создалась ситуация, которая важна для девочки до сих пор.
– А ты? – алыверды просила дочь.
– Если б я стала опять шестнадцатилетней, я бы сказала себе сегодняшней: не пей алкоголь, – серьезно сказала мать. – Может быть, тогда мне сегодняшней, сорокалетней не надо было б столько глотать таблеток, и миллионы миллиардов нейронов и замечательная копна волос были б на месте. И еще пара скелетов в шкафу, вечно гремящих своими костями в тишине, исчезли б и не будили совесть по утрам, когда больше всего хочется спать.