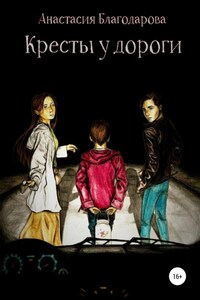Сквозь щели полусгнивших брёвен бани сочилось зелёное лето. Где-то совсем рядом пела коса. Мама, стало быть, не теряя времени даром, наводила красоту в своём саду. Пятачок от огорода до дома засадила по-крупному. Снежноягодник, сирень, золотарник – всё большое, пышное, дикое. Казалось бы, кричащее в цвету, но за таким только прятаться от мира, не сгибая спины. Меж кустов – буйная трава да осколки кирпича в земле, доставшейся по наследству. Дочь боялась – мама со своей наточенной косой и рабочей прытью наскочит ножом на красный камень и порежет ногу. По себе знает, как это больно. Но теперь лишь хозяйка участка может ухаживать за ним и за всеми его пленниками. Верная себе, страдает, что называется, с огоньком.
Тяжёлый горячий пар смягчал резкий звук, доносящийся снаружи, клубился возле губ, душил поцелуем. Аделина полила на спутанные волосы тёплую, отдающую хозяйственным мылом воду, поставила таз на полку строго перед собой. Отпустила погнутые железные ручки его, хлопнула ладонью по стене. В палец вогналась заноза, кожу согрело сырое дерево. Опора значительно облегчила ориентацию в пространстве. Воображение невидимыми линиями начертило схему предбанника. Аделина, гладя бревно, по памяти шагнула в сторону двери. Один кроткий шаг вправо, другой, и запястье лизнула ворсистая ткань. Чистое лицо, пахнущее берёзовыми листьями, озарила счастливая улыбка. Девушка гордилась, что нашла висящее на гвозде полотенце самостоятельно, и обернула его вокруг себя.
Вдохновлённая маленькой победой, толкнула наружную дверь. Мир наполнился звуками: грузным скрипом ржавых петель, взвизгом косы где-то в пяти метрах впереди, чужим вздохом. В босые ступни больно впивались крошечные камушки, рассыпанные на пороге. По крайней мере, отныне так Аделина чувствовала пыль. Всё на свете теперь было слишком большим.
– Чего выскочила?! – крик матери туго вкручивался в уши. – Сдурела? Ищешь подвигов?
Дочь, может, и искала бы. Дерзко, назло. Да только в один раз на крылечке бани она, вздумавшая добраться до дома без сопровождения, поскользнулась и сломала себе ногу. Всякий раз на этом самом месте сросшаяся кость теперь начинала ныть, как заговорённая. Фантомная боль обездвиживала, стыдила. Велела покорно стоять на месте и ждать помощи.
Судя по звукам, хозяйка бросила косу, но Аделине всё равно стало не по себе. Мама привычно причитала, что надо было позвать, что на пять минуток отойти нельзя, а дочь сжалась в плечах и приподняла руки, не зная, откуда и чего ждать. С грубой любовью, как умеет, поводырь поймал слепую за локоть, пнул шлёпанцы к её ногам.
– Ой, вот выперлась же! На кой тапки на улице оставила, а?
Аделина молча обулась, влажные ступни со скрипом втиснулись в резину. То был риторический вопрос, как и большинство маминых вопросов, громких, резких, полных безусловного возмущения. Если она и спрашивает, то чаще всего саму жизнь, напоминая ей о великой несправедливости к простым рабочим женщинам. Мама и так знает все ответы, а иная точка зрения – белый шум.
Аделину потянули за собой. Она придерживала полотенце на груди. С прикрытыми веками осталась та же темнота, зато так будто легче сконцентрироваться. Однажды слепая прислушается к советам врачей: «Не моргай, не двигай. Глазам нужен покой». Уголки рта чуть дёрнулись вверх. Зачем теперь-то покой? Чем оно поможет? Зрительные нервы оживут, чтобы различать хотя бы свет и мрак? Смешно… и грустно. Тем более что сегодня звуки и запахи словно потускнели. Пение птиц, жужжание мух и шуршание древесной листвы отдалились, аромат скошенной травы и смрад соседского свинарника ослабели. Можно списать притупление чувств на зной, например, но это всё равно, что на кофейной гуще гадать. Горячая кожа дышала жаром бани, и сейчас неясно, какая погода. Солнечно, пасмурно? А, может, и вовсе ночь?
Щёлкнула входная дверь, носоглотку уколол запах ветхого тряпья и испражнений. Мама дала пару секунд, чтобы дочь разулась и, не ослабляя хватки, повела в спальню, перед каждым порогом напоминая переступить. Аделина настаивала, что уж в своём доме имеет полное право передвигаться самостоятельно, пусть и наощупь. Сначала были обронённые табуретки, груды посуды, синяки ушибов обо все углы. Потом перелом с месяцем в постели, как та же бабушка. Тогда, чтобы добраться до туалета, требовалось два костыля: трость и мама. Та и наловчилась, и всякие попытки своей взрослой дочери учиться независимости пресекала на корню.
Девушку усадили на кровать.
– Так, тебе одеться.
– Я сама, – вяло запротестовала Аделина, водя руками по покрывалу в поисках вещей. Одним рывком с неё сдёрнули полотенце. – Мам!
Из веранды донёсся жалобный стон.
– Жди, – скомандовала мама, будто был выбор.
В одиночестве, пользуясь моментом, нашла и натянула халат, даже не наизнанку.
Если Аделина стала беспомощной относительно недавно (полгода назад), то бабушка лежала вот уже как десять лет. Справлялась под себя, ела с ложечки, мычала и выла, а мама самоотверженно продлевала ей жизнь. Обитателей дома преследовал запах затхлости, истлевших тряпок, больного человека. Когда свет для молодой девушки навсегда погас, обострилось обоняние, и пребывание в четырёх стенах превратилось в пытку. Тем страшнее тюрьма, что пленила в шаге от свободы. Окончание школы, поступление в университет, переезд в общежитие, знакомство с новыми, интересными людьми… Бесполезные слёзы заскользили по щекам. Аделина хотела бы оглохнуть, но снова слышала из коридора:
– Помаленьку… Ну, а что? В очках ходила, не заметила. Как стало зрение «падать», всё оттягивала. Сказала – в городе к врачу пойдёт, ага… Ты бы знала – зараза какая-то! А денег нема. Месяц – и «оп»! Ну! Бывает, ну… Я сколько раз говорила – здоровье с молода беречь. Всё хихоньки-хахоньки.
Аделина повернулась к источнику звука, и если бы с ней сейчас кто-то был, решил бы, что видит она хорошо. С такой злой обидой смотрела. Вся родня до пятого колена, своя и не своя, уже в курсе тяжёлой участи сиделки двух инвалидов из умирающего села. Все сочувствовали, смакуя подробности, коими несчастная и сильная женщина охотно делилась. При этом никто никогда не навещал. О финансовой помощи стыдно даже заикаться. Новоиспечённая пенсионерка, одинокая грузная женщина, если не ухаживала за матерью и дочерью – не выпускала из рук мобильный телефон. Единственное развлечение. В том её никто не винил.
Несмотря на груз, каким на сердце ложились мамины откровения для равнодушных людей, девушка благословляла редкие минуты спокойствия. Вот и теперь нацепила наушники. Кнопочный плэйер ещё не пиликал – заряда не меньше двадцати процентов. Прослушивание музыки возвращало к жизни – пускало в волшебный мир образов и иллюзий тактильных ощущений. За кратковременное удовольствие велика плата – изоляция от мира, обступающего чёрной глухотой. Аделина подвергала себя опасности, оставаясь с песней один на один. Блокируя слух, открывала свою уязвимость. В таком состоянии никогда не знаешь, когда и откуда ударит.