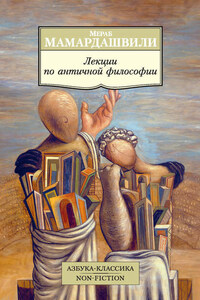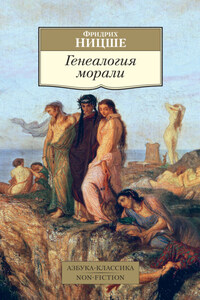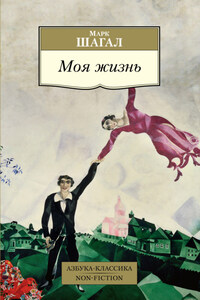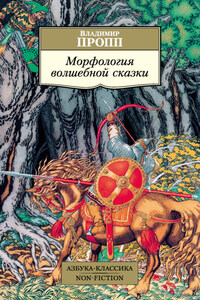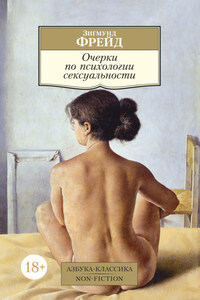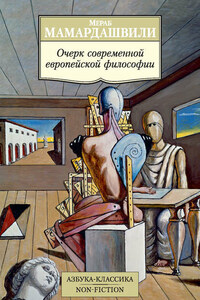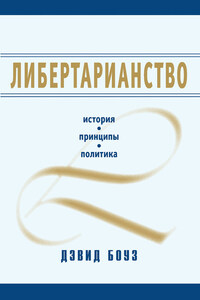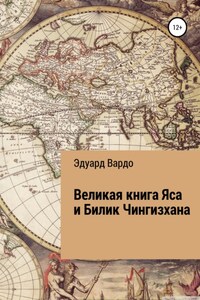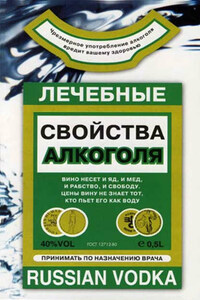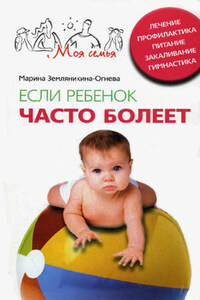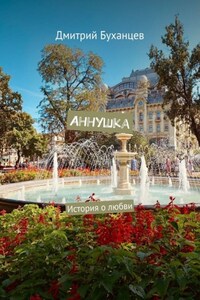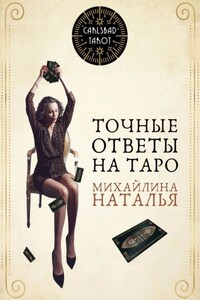Публикуемый курс лекций был прочитан Мерабом Константиновичем Мамардашвили в январе-апреле 1980 года во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Там же с 1978 по 1980 год, помимо этого курса, он прочитал «Введение в философию» и «Очерк современной европейской философии». Лекции во ВГИКе стали своего рода завершением «московского периода» жизни философа: осенью 1980 года он вынужден будет покинуть Москву и переехать в Тбилиси.
Впервые «Лекции по античной философии» вышли в издательстве «Аграф» в 1997 году (под общей редакцией Ю. П. Сенокосова); этим же издательством лекции были переизданы в 2002 году. Затем последовало издание 2009 года (М.: Прогресс-Традиция; Фонд Мераба Мамардашвили), являющееся дополненным и исправленным по сравнению с изданием 1997 года. Настоящая публикация повторяет издание 2012 года (СПб.: Азбука), которое в свою очередь являлось повторением издания 2009 года. Приступая к подготовке лекций к изданию в 2009 году, я располагала лишь расшифровкой аудиозаписи двенадцати лекций курса (эта же расшифровка лежит в основе издания 1997 года), но окончательная редакция была сделана уже на основании аудиозаписей, присланных из Тбилиси Изой Константиновной Мамардашвили. После прослушивания аудиозаписей лекций текст был приведен в большее соответствие с оригиналом: исправлены ошибки исходной расшифровки, восстановлены неоправданные купюры.
Еще раз выражаю огромную благодарность Александру Михайловскому, который при подготовке книги к изданию в 2009 году любезно согласился прочесть текст лекций и дополнил его примечаниями. В лекциях М. К. цитирует – в своем переводе – французские и английские переводы греческих авторов (по книгам[1]: Platon. OEuvres complètes. Paris: Gallimard, 1950; Alain. Les passions et la sagesse. Paris: Bibliotheque de la Pleiade, 1960; Les Philosophes Célèbres. Paris: ed. Mazenod, 1956; Vernant J.-P. Mythe et pensée chez les Grecs. Paris: François Maspero, 1966; Guthrie W. K. C. The Greek Philosophers. From Thales to Aristotle. London: Methuen, 1967), – этим объясняются расхождения с существующими переводами античных текстов на русский язык. Чтобы не приводить каждый раз соответствующее место в русских переводах, автор примечаний ограничился указанием источника: так, в случае Гераклита просто указан номер фрагмента по Дильсу-Кранцу.
Я также признательна Андрею Парамонову за пояснение к фрагменту лекций, в котором М. К. обращается к математическому образу, известному как сетка Мёбиуса.
Я попытаюсь рассказать историю философии как историю некой единой, хотя и растянувшейся во времени, попытки людей философствовать и посредством философии узнавать о себе и о мире то, чего без философии узнать нельзя. Мы попытаемся подойти к этому материалу так, чтобы в нем почувствовать те живые вещи, которые стоят за текстом и из-за которых, собственно, он и возникает. Эти вещи обычно умирают в тексте, плохо через него проглядывают, но тем не менее они есть, и читать тексты и рассуждать о них имеет смысл только тогда, когда ты не наполняешь себя догматической ученостью, а восстанавливаешь живую сторону мысли, из-за которой они создавались.
Дело в том, что посредством создания текста и следуя логике, которой требует уже не твоя мысль, а характер текста, мы сами себе только впервые и уясняем собственную мысль и узнаем, что же мы, собственно, думали. Поэтому, когда уже позже, через две тысячи лет, мы встречаемся с текстом, он оказывается не элементом книжной учености, а конструкцией, проникнув в которую мы можем оживить те мысленные состояния, которые находятся за этим текстом и которые возникли в людях посредством его. Если бы это было не так, то нам не нужна была бы никакая письменная история, и мы имели бы право ее не помнить, и только архивариусы занимались бы текстами, книгами, рукописями.
Одновременно наш курс истории философии будет своего рода введением в философию, попыткой ухватить ее особенность и то, в чем состоят акты философствования. Я повторяю, мертвые знания нам не важны, мы к прошлому обращаемся и понимаем его лишь в той мере, в какой можем восстановить то, что думалось в прошлом, в качестве нашей способности мышления, как то, что мы можем сейчас сами подумать. Проблема не в том, чтобы прочитать и потом помнить текст, а в том, чтобы суметь высказать мысль, содержащуюся в нем как возможность актуального, теперешнего мышления людей XX века.
Задача историка философии или человека, читающего что-то из истории философии, состоит в том, чтобы, читая чуждый нам словесно, по форме, текст, помыслить мыслимое в нем как то, что мы могли бы помыслить сейчас. И это предполагает, что мы должны будем различать две вещи: с одной стороны, некое мыслительное содержание учения, например Демокрита, а с другой стороны, историческую форму, в которой это содержание было выражено, и то сознание о себе и о смысле своего учения, которое имел данный философ. Следовательно, есть некое объективное мыслительное содержание, которое не зависит от того, как его понял и изложил философ, который мыслил это содержание: есть нечто такое в утверждении Демокрита об атомах и пустоте, что не зависит от того, как сам Демокрит это понял и выразил. Казалось бы, парадоксально – есть мысль Демокрита, независимая от самого Демокрита, от той формы, которую он придал этой мысли, излагая ее, доказывая и сообщая другим.
Более того, тем, что я буду рассказывать, вы должны пользоваться как калькой для понимания текста. Я не буду пересказывать и воспроизводить тексты: лектор не множительный аппарат, и не имеет смысла воспроизводить то, что уже сделано; текст напечатан в энном числе экземпляров, и нет необходимости его повторять и пересказывать. Моя задача состоит в другом: поскольку вы можете в одну руку взять текст, то я попытаюсь сделать так, чтобы в другой руке у вас была к нему калька. Я в буквальном смысле имею в виду кальку. Вы накладываете прозрачную бумагу на текст, и на этой бумаге должно быть что-то, чего нет в тексте. Текст проглядывает через кальку, а на кальке тоже что-то написано, и соединение одного с другим поможет понять тексты, понять историю философии.