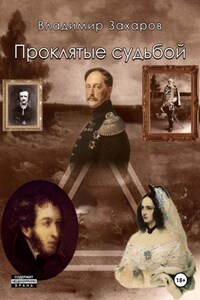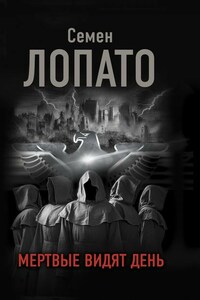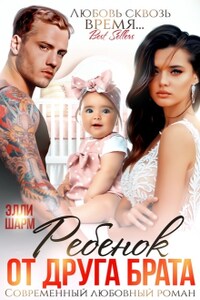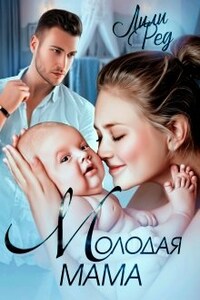Осень 1870 года.
Номер Тургенева в гостинице в Петербурге.
ТУРГЕНЕВ нервно ходит взад-вперёд. Одет изящно – в сюртуке, в белой сорочке, на шее -дорогой галстук с драгоценной булавкой.
Входит ДОСТОЕВСКИЙ. Он в шляпе и пальто.
ТУРГЕНЕВ (с распростёртыми объятиями идёт ему навстречу). Фёдор Михайлович, сколько лет, сколько зим!
С напряжёнными плечами и как-то неискренне они обнимаются. Тургенев жестом приглашает Достоевского присесть. Достоевский снимает шляпу и пальто, остаётся в застёгнутом на все пуговицы сюртуке, садится.
ТУРГЕНЕВ. Я получил ваше письмо и согласился немедленно с вами повидаться, потому что скоро собираюсь надолго уехать за границу. Ваше письмо напомнило мне о наших встречах у Белинского на заре вашей литературной карьеры.
ДОСТОЕВСКИЙ (отрывисто). Когда уезжаете?
ТУРГЕНЕВ. Я, собственно, приехал получить годовой доход с имения и завишу теперь от моего управляющего.
ДОСТОЕВСКИЙ (немного насмешливо). Вы ведь, кажется, приехали потому, что заграницей ожидали эпидемию после войны Франции с Пруссией?
ТУРГЕНЕВ (благодушно скандирует). Н-нет, не совсем. (Начинает ходить и при каждом повороте из угла в угол чуть-чуть дрыгает правой ногой. Усмехнулся не без яда). Я действительно намереваюсь прожить как можно дольше…
ДОСТОЕВСКИЙ (грубо прерывает его). Человек предполагает, а Бог располагает…
ТУРГЕНЕВ (говорит медовым, хоть и несколько крикливым голосом, нежно скандируя каждое слово и приятно, по-барски, шепелявя). Знаете, в русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся. Но я хочу износиться как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем. Там и климат лучше, и дом у меня каменный, и вообще всё крепче. На мой век Европы хватит, как Вы думаете?
ДОСТОЕВСКИЙ (отрывисто). Откуда мне знать…
ТУРГЕНЕВ (садится). Если в Европе действительно рухнет Вавилон, и падение его будет великое, то у нас в России и рушиться нечему. Упадут у нас не камни, а всё расплывётся в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ ещё держится кое-как Русским Богом, но Русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадёжен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере сильно покачнулся. Я в Русского Бога совсем не верую.
ДОСТОЕВСКИЙ. А в европейского верите?
ТУРГЕНЕВ. Я ни в какого Бога не верую. Меня оклеветали перед русской молодёжью. Я всегда сочувствовал каждому её движению. Мне показывали здешние прокламации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма, но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы до конца и не сознавая этого.
ДОСТОЕВСКИЙ. Можно подробнее.
ТУРГЕНЕВ. Русские с состоянием хлынули за границу, и с каждым годом всё больше. Тут просто инстинкт. Если корабль тонет, то первыми из него бегут крысы. Святая Русь – страна деревянная, нищая и… опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живёт в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому исходу, стоит только растолковать. Одно правительство ещё хочет протестовать, но машет дубиной в темноте и бьёт по своим. Тут всё уже обречено и приговорено. Россия, как она есть не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю себе это в честь.
ДОСТОЕВСКИЙ. Вот вы начали о прокламациях. Они, на ваш взгляд, имеют сильное влияние!
ТУРГЕНЕВ. Их все бояться, стало быть они могущественны. Они открыто обличают обман властей и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее эта неслыханная до сих пор смелость глядеть прямо в лицо истине. В Европе ещё не так смелы: там есть священные камни, там ещё есть на что опереться.
ДОСТОЕВСКИЙ. Сколько я вижу и могу судить, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести.
ТУРГЕНЕВ. А мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. В Европе ещё этого не поймут, а у нас именно на это и набросятся.
ДОСТОЕВСКИЙ. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым «правом на бесчестье» его скорей можно увлечь.
ТУРГЕНЕВ. Я поколения старого и, признаюсь, ещё стою за честь, но уже только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим по инерции. Нужно же как-нибудь дожить свой век.
ДОСТОЕВСКИЙ (встаёт и нервно ходит). Все вы, русские либералы, помешаны на атеизме. Да и ненависть к России тут есть. Вы первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась и как-нибудь вдруг стала богата и счастлива. Некого было бы вам тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся… Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
ТУРГЕНЕВ (смеётся). Какие сапоги? Что за аллегория?
ДОСТОЕВСКИЙ. Какая тут аллегория!.. Вы, я вижу, смеётесь… Я сам под камнем лежу, раздавлен, но не задавлен, а только корчусь…
ТУРГЕНЕВ. Хорошее сравнение, правильное…
ДОСТОЕВСКИЙ. Вот вы помешались на немцах…
ТУРГЕНЕВ. Мы с немцев всё же что-нибудь да стащили себе в карман.
ДОСТОЕВСКИЙ (недовольно поморщился). Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали. Так вы атеист?
ТУРГЕНЕВ. Ну да, ну да.
ДОСТОЕВСКИЙ (задумчиво). Если в России бунт начинать, то надо непременно начать с атеизма. Атеист не может быть русским. Атеист тотчас перестаёт быть русским. Это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа. Скажу больше: неправославный не может быть русским.
ТУРГЕНЕВ. Я полагаю что это славянофильская мысль.
ДОСТОЕВСКИЙ. Нет, нынешние славянофилы от неё откажутся. Нынче народ поумнел. Но если бы мне математически доказали, что истина вне Христа, то я бы скорее согласился остаться с Христом, чем с истиной.
ТУРГЕНЕВ. К чему вы это мне говорите?
ДОСТОЕВСКИЙ (говорит, грозно глядя на Тургенева). Ни один народ ещё не устраивался на началах науки и разума. Не было ни одного такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему должен быть атеизмом, поскольку он с самой первой строки провозгласил, что он установление атеистическое и намерен устроиться исключительно на началах науки и разума. Но разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков исполняли лишь должность второстепенную и служебную, и так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иной, повелевающей и господствующей, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти.