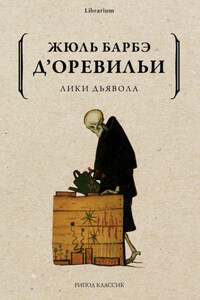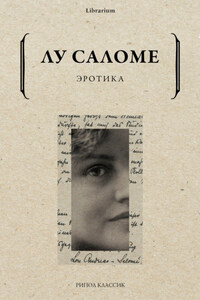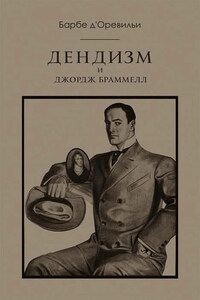В прошлом году летним вечером я посетил баронессу Маскранни – одну из парижанок, особенно ценящих старинное остроумие и распахивающих двери своего салона настежь – хотя и одной створки было бы достаточно – перед немногими уцелевшими представителями его. Разве за последнее время легкое остроумие не превратилось в претенциозный ум?.. Баронесса Маскранни по мужу принадлежит к старинной и славной фамилии, родом из Граубюндена. Эта фамилия, как известно, имеет в гербе серебряного орла с распростертыми крыльями, с серебряным ключом по правую сторону и серебряным шлемом по левую – по червлению с волнообразными линиями, а в середине – щиток с золотым цветком лилии по лазури. Почетные фигуры эти были пожалованы фамилии Маскранни европейскими государями в награду за услуги, оказанные им Маскранни в различные эпохи. Если бы европейские государи не были в настоящее время завалены множеством других дел, они могли бы обременить уже столь сложный герб еще новою фигурою в награду за те поистине героические усилия, с которыми баронесса – дочь вымирающих праздных аристократий и абсолютных монархий – поддерживает искусство салонной беседы. Обладая манерами и умом, соответствующими имени, баронесса Маскранни превратила свой салон в род очаровательного Кобленца, где нашло себе приют старинное красноречие, – славные остатки французского остроумия, вынужденного эмигрировать перед деловым и утилитарным духом времени. Там в ожидании минуты, когда ему суждено будет смолкнуть навеки, поет оно по вечерам свою божественную лебединую песнь. Там, как в немногих парижских салонах, где живы еще традиции изящной беседы, не слышно длинных фраз и совсем почти изгнан монолог. Ничто не напоминает вам журнальной статьи или политической речи – вульгарных форм мысли, особенно излюбленных XIX веком. Ум блещет здесь в очаровательных и глубоких, но всегда кратких речах; а иногда только в оттенках голоса или едва приметных гениальных жестах. В этой счастливой гостиной мне привелось ознакомиться еще ближе с той силой, в которой я не сомневался и раньше, – с силой односложных слов. Не раз доводилось мне слышать, как их произносили или роняли здесь с искусством, далеко оставлявшим за собою талант мадемуазель Марсе; «царица междометий» на сцене, она тотчас же была бы лишена трона в Сен-Жерменском предместье; ибо женщины этого предместья слишком grandes dames[1] для того, чтобы подчеркивать тонкость своих острот на манер актрисы, играющей Мариво.
В этот вечер, однако, в виде исключения, обстоятельства сложились не в пользу кратких речей. Когда я вошел в гостиную баронессы Маскранни, комната была полна лиц, которых баронесса называет своими интимными друзьями, и беседа отличалась обычным оживлением. Подобно причудливым цветам в яшмовых вазах на консолях гостиной, близкие друзья баронессы разнятся друг от друга по происхождению. Есть между ними англичане, поляки, русские; но все они – французы по языку, по складу манер, который на известном уровне общества повсюду одинаков. Не знаю, с чего начался разговор, который я застал; но, когда я вошел, говорили о романах. Говорить о романах почти то же, что рассказывать свою жизнь. Нечего прибавлять, что это собрание светских мужчин и женщин не было столь педантично, чтобы говорить о романах в литературе. Интересовала суть вещей, а не их форма. Эти практики высшей морали, эти люди, искушенные в страстях и под легкими, развязными манерами скрывавшие глубокий жизненный опыт, рассматривали роман с точки зрения человеческой природы, нравов и истории. Только всего. Но разве это не все?.. Впрочем, на эту тему уже, вероятно, много говорили, ибо на лицах было написано выражение напряженного внимания. Взаимно возбуждая друг друга, умы играли и пенились, как вино. Некоторые живые души – я мог бы насчитать их в гостиной три-четыре – сидели молча, одни склонив голову, другие мечтательно разглядывая унизанную перстнями руку, покоившуюся на коленях. Быть может, они пытались облечь в плоть свои грезы, что является делом почти столь же трудным, как и одухотворение своих ощущений. Укрытый беседою, я вошел незамеченным и сел позади ослепительной бархатистой спины красавицы графини Дамналии, покусывавшей край веера и внимавшей разговору, как внимали все в этом свете, где умение слушать почитается особым очарованием. Розовый день покрывался тенями и тихо угасал, как счастливо прожитая жизнь. Гости сидели полукругом, и в легком сумраке салона вырисовывалась словно гирлянда, сплетенная из мужчин и женщин в разнообразных небрежно-внимательных позах. То был как бы живой браслет, застежкою которого служила хозяйка дома с ее египетским профилем и с ее кушеткою, на которой она постоянно лежала, как Клеопатра. В открытое окно были видны небо и балкон, на котором стояли несколько человек. Воздух в эту минуту был так чист, а набережная реки так молчалива, что стоявшие на балконе не теряли ни одного звука, раздававшегося в гостиной, несмотря на то что драпировки окон смягчали звонкие ноты и задерживали в своих складках волны голоса. Когда я увидел и узнал говорившего, то понял и внимание, с которым его слушали (оно не было простою любезностью, которою дарила его красота), и дерзость, с которою он удерживал за собою слово гораздо дольше, чем допускалось в этой изысканной гостиной.
Действительно, говоривший считался самым блестящим рассказчиком в этом царстве изящной беседы. Я не называю его по имени, но даю вам его характеристику. Виноват. У него было еще одно качество… Злословие и клевета, сестры, похожие друг на друга так, что их трудно различить, и пишущие свою хронику навыворот, словно еврейское письмо (не является ли эта хроника часто на самом деле тарабарскою грамотою?), вписали в свою летопись, что человек этот был героем бесконечного ряда романических приключений, о которых он, конечно, не собирался рассказывать вам в этот вечер.
– …Самые прекрасные романы в жизни – это те, – говорил он, когда я уселся на диванных подушках под прикрытием плеч графини Дамналии, – которых нам пришлось слегка коснуться рукою или задеть, идя мимо, ногою. Всем вам они встречались. Роман обычнее истории. Я не говорю о тех грозных катастрофах и драмах, в которых дерзость чувства смеется над общественным мнением; минуя эти редкие бури, вызывающие неописуемое негодование общества, подобного нашему, которое было лицемерным вчера и только трусливо сегодня, вам всем приходилось быть свидетелями таинственных проявлений чувства или страсти, губящих целые жизни, разбивающих сердца с глухим стуком, похожим на звук тела, падающего в бездну подземной тюрьмы, над которою мир простирает свой тысячеголосый шум или свое молчание. О любовной истории часто можно сказать то, что говорил Мольер о добродетели: «И куда она только не заберется, дьявол ее возьми!..» Где всего меньше ожидаешь ее встретить, она тут как тут! Вашему покорному слуге довелось в детстве увидеть, – нет, не то слово – скорее, угадать, почувствовать одну из ужасных, беспощадных драм, которые разыгрываются не на публике, хотя люди и видят действующих лиц их ежедневно; одну из тех «кровавых комедий», по выражению Паскаля, которые даются при закрытых дверях, за спущенным занавесом интимной жизни. Но немногое, что из этих скрытых, задушенных, «вогнанных внутрь» драм выходит наружу, гораздо мрачнее и потрясает воображение и память сильнее, чем если бы на ваших глазах разыгрывалась вся драма. То, чего не знаешь, во сто раз увеличивает силу впечатления от того, что видишь. Ошибаюсь ли я? Но мне кажется, что ад должен ужаснуть гораздо более, если смотреть на него в щелку, чем если окинуть его взглядом весь, с высоты.