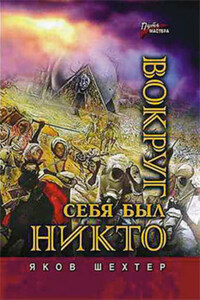– Вы шутите, – сказал он, отступая на шаг.
– Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.
Эдгар По
Чтобы стать идиотом, вовсе не обязательно родиться в Калараше. Где суждено, там и прихватит, невзирая на место жительства, образование и национальную принадлежность.
На девятом месяце Сёминой маме захотелось говорящего попугая.
Без почему, захотелось, и все тут. Беременность проходила тяжело, Сёма крутился, словно патефонная пластинка, и бил ногами не хуже жеребца.
«Веселый будет, – думала мама, придерживая руками вздрагивающий живот. – Ишь, какой энтузиаст».
Сумочка с зубной щеткой, полотенцем и паспортом уже висела на вешалке, а Сёмин папа принес и запрятал в бельевом шкафу три коробки шоколадных конфет «Метеорит» – для нянечек в роддоме.
Счастье подступало как горячая вода в ванне. Оставалась только зажмуриться, вдохнуть поглубже и погрузиться в него с головой.
– Хочу попугая, – потребовала мама. – Большого, зеленого и чтоб кричал: «Попка-дурак».
Попугай оказался желто-блакитным, стоил половину папиной итээровской зарплаты, а его словарный запас исчерпывался лозунгом: «Да здравствует Первое мая!» Но мама была счастлива. Ведь счастье – это когда муж без лишнего слова покупает ненужную в хозяйстве вещь и, заглядывая в глаза, шепчет:
– Ну как, солнышко, тебе нравится?
Возможно, именно переизбыток положительных эмоций оказался роковым. Слишком хорошо – это уже не хорошо. Пусть лучше окажется хуже, чем такое безбрежное счастье с трагедией на конце.
Не пригодились ни сумочка, ни шоколадные конфеты. Роды оказались стремительными. Есть такой медицинский термин. Сёма выскочил из мамы в самое неподходящее время и, стукнувшись головой о край унитаза, заработал на всю жизнь кефалогематому – опухоль головного мозга.
– Не переживайте, – утешал маму главврач роддома, самолично прибывший подивиться на необычный случай. – Опухоль доброкачественная, зато от армии освобождает.
Он сладко улыбался и делал пальцами козу. Поскольку Сёма еще ничего не понимал, получалось, что главврач делал козу его маме.
Доброкачественная опухоль – все равно опухоль. Тем более на таком чувствительном месте. Пытаясь обмануть судьбу, родители назвали малыша Соломоном.
– Имя, данное при обрезании – как пожизненный приговор, – сказал реб Гершом, единственный уцелевший на всю Молдавию моэль. – Ни отменить, ни изменить уже невозможно.
Одного пальца на его правой руке не хватало, но остальными он крепко держал нож за самый конец черенка. Сёма даже не успел заплакать…
В комнате было жарко от дыхания разгоряченных угощением родственников. Столбик ритуальной крови в стеклянной трубке напоминал зашкаливший термометр.
– Значит, мы приговорили его к мудрости, – пошутил папа.
– Лехаим, лехаим, – вдруг прокричал попугай.
Гости засмеялись.
– Мудрый или не очень, – вслух пожелала мама, – лишь бы был счастлив.
– Счастье – это не знать своего будущего, – заметил реб Гершом, но его никто не услышал…
В Калараше, городе садов, уродливых новостроек и дешевого молодого вина, к евреям относились достаточно терпимо. Тем не менее сочетание Соломон Меерович резало слух даже неприхотливому молдавскому уху. Для простоты обращения и, чего таить, в целях мимикрии ребенка стали называть Сёмой.
Это был застенчивый мальчик, с большими ушами и родинкой на самом конце носа. До трех лет он не разговаривал.
– Доброкачественная, – плакала мама. – Сказали бы сразу правду, легче было б жить.
Наутро после третьего дня рождения Сёма подошел к папе и решительным тоном произнес несколько фраз. Папа остолбенел.
Сёма повторил и тут же заплакал – тонким злым голосом.
Остолбенение у папы прошло не сразу. Дело в том, что Сёма заговорил по-молдавски.
– Я же просил вас, – выговаривал папа родителям жены, – не оставляйте радио включенным на весь день!
Сёму переучивали всей семьей, и к пяти годам он бойко стрекотал на чудовищной смеси из русского, идиш и молдавского.
Читать он выучился легко и все свободное время проводил за книжками. Речь у него наладилась, хотя излюбленным собеседником стал попугай. По его выкрикам можно было догадаться, какую книгу читает Сёма.
– Бедный Соломон, – причитал попугай, – бедный Соломон! Куда ты попал, Соломон? Где ты был?
Сёму попугай называл исключительно полным именем, а все услышанное безобразно перевирал.
– Пиастры, – кричал он по утрам, – пиастры и бутылка брому!
– Если этот кошмар не прекратится, – вздыхал папа, – нам таки придется тратить на бром последние пиастры.
Но выжить попугая из дому не было никакой возможности.
Едва папа предлагал обменять его на велосипед или поездку к морю, Сёма падал на пол и заходился в рыданиях.
– Ты что, – зловеще шипела мама, обматывая Сёмину голову мокрым полотенцем, – забыл про опухоль?
Сёма рос нормальным, здоровым ребенком, и о трагическом начале его жизни все, кроме мамы, потихоньку стали забывать. Ей же казалось, будто болезнь ушла вглубь и точит мальчика изнутри. Мама регулярно таскала Сёму на проверки, накачивала витаминами и свежей куриной печенкой. Анализы оказывались достаточно благополучными, но мамино сердце не успокаивалось. Можно только представить, что бы она устроила, узнай правду о Сёминых играх с дворовыми котятами.
Сёма приманивал их на кусочки мяса, обрезки колбасы, сахар, смоченный валерьянкой. То ли кошачья память коротка и глупые животные не помнили предыдущих Сёминых выкрутасов, то ли приманка выглядела в их перламутровых глазах достойной риска.
Прыжком преодолев последние полметра, они хватали добычу всей пастью и стремительно пускались наутек. Но реакция у Сёмы была не хуже кошачьей. Одной рукой он цеплял незадачливого охотника за шерсть вдоль хребта, а второй, тоже со спины, обхватывал горло и сжимал пальцы. Котенок начинал хрипеть и отчаянно молотить воздух лапками с растопыренными когтями. Силы быстро кончались, через полминуты он затихал. Веки накатывались на глаза, из распахнутой пасти свисали липкие слюни. Доводить до конца Сёма не решался, что-то останавливало его в самый последний момент. Он отбрасывал в сторону полузадохшегося котенка и уходил домой.
Пережитого хватало на несколько дней, а потом он снова начинал собирать лакомые кусочки. Никто не догадывался о настоящей причине, о тайном, дурманящем, сводящем с ума сладострастии.
Сёма таился от посторонних глаз, раскидывая приманку в дальнем конце двора, между шершавой стеной дровяного сарая и кирпичным забором. Иногда котенку удавалось до крови оцарапать его руку, Сёма бледнел и бежал к маме за зеленкой.
– Неблагодарные, – сердилась мама на котят, – как можно царапать того, кто вас кормит. Сёмушка, прекрати носить им еду, пусть поголодают!
Сёма не соглашался, и мама с затаенной гордостью рассказывала знакомым о большой любви ее сына к животным.