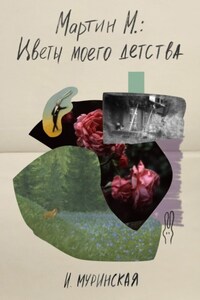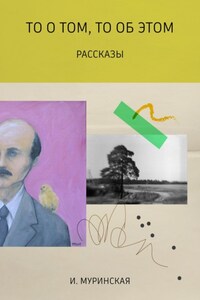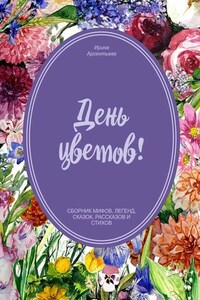Господин Утьчжевич всегда носил очень мятую фетровую шляпу и очень длинный серый плащ. Мартин встретит его в парке, когда будет идти в музыкальную школу. Господин Утьчжевич сядет на лавку, достанет из правого кармана недоеденное яблоко в целлофановом пакетике, а из левого половину свежего батона. Голуби и утки соберутся вокруг него еще до того, как на асфальт полетят хлебные крошки. Когда птицы будут накормлены, господин Утьчжевич развернет целлофановый пакетик и застенчиво сгрызет недоеденное яблоко, очень аккуратно положив объедки обратно в пакетик, а пакетик – обратно в карман. Все это случалось с таким постоянством, что будет казаться столь же естественным и необходимым, как весенняя капель или октябрьский листопад. Однако в этот раз в господине Утьжевиче будет что-то необыкновенное. Его кругленькое, обычно равномерно-сероватое лицо в тот день будет словно нарумянено, из его петлицы будет торчать какой-то сорняк, а его шляпа будет выглядеть так, как будто была подвергнута попытке распрямления. На обратном пути Мартин впервые увидит господина Утьчжевича в компании кого бы то ни было, помимо уток и голубей, а именно – Матильды, которая облачится по этому случаю в чуть подпорченное молью шерстяное пончо такого же цвета, как и лапы черемухи, создающие здесь фантастические кроваво-красные лабиринты. Она будет держать господина Утьчжевича под руку и вращать головой, глядя по сторонам, а он будет смотреть прямо перед собой и шагать так, как будто только что научился ходить. Поодаль же, в зарослях, где даже трава будет казаться темно-алой под сенью зловещего цветения, Мартин обнаружит другую фигуру, чьи черные глаза всегда устремлены только на него, даже когда ничего и никого не видят, застывшую в терпеливом, но требовательном ожидании.
Однако все это случится позднее. Теперь же Мартин (Мартин М., если полностью) находился во дворе перед своим домом, позволяя матери держать его за руку, и ему с той ясностью, которая бывает только в сновидениях, вспоминался момент, когда он в точности так же стоял на этом самом месте и слышал гул пролетающего над ним самолета, стук паровозных колес и пение соловья одновременно, хотя ближайшая железная дорога и пролегала в десятках километров от их города, и еще не знал о том, что аномальное цветение черемухи огромными алыми цветами совпадет с другими, еще более необычайным событиями, которые произойдут в городе К. в мае 19…-го года.
Комната, в которой Мартин проводил так много времени, комната с тонкими розовыми занавесками, его комната, располагалась в глубине квартиры. Ее единственное окно выходило на задний двор, точнее сказать, пустырь. Эта комната будет часто сниться ему впоследствии, когда он почти позабудет ее обстановку, а дикие яблони перед домом зачахнут. В этих снах он будет пробираться сюда тайно, среди ночи, стараясь не потревожить незнакомых людей, которые теперь мирно спят здесь вместо него, а позади дома, вместо пустыря, будет широкое плато, с которого открывается вид на каньон и скрытые в длинных серых облаках горные вершины. Пробуждаясь от этих снов, он будет изумляться, что никогда в ней больше не побывает.
В этой комнате он спал, делал домашнее задание, сушил цветы в большой книге с офсетными листами, изучал созвездия в охотничий бинокль, а также, положив голову на подоконник с бегониями и фиалками, всматривался в отдаленные вершины деревьев и плакал от жалости к себе и другим.
Так получилось, что в детский сад он почти не ходил. Те несколько недель, что он там провел, оставили, однако, в его памяти чрезвычайно рельефные образы, от которых он не сможет избавиться, наверно, уже никогда. Например, удивление, вызванное принудительным укладыванием спать посреди дня в большой комнате с расставленным рядами кроватями. Сна у него в такие моменты было, как говорится, ни в одном глазу. Встать и заняться чем-нибудь было нельзя. Оставалось лежать и молча слушать тихое сопение других детей, которые, как ни странно, в отличие от него, действительно сразу или почти сразу засыпали. Иногда были слышны и другие звуки, те, что доносились из-за закрытой двери, тоже тихие, но отличающиеся от первых большим разнообразием и тем искажением, что привносило в них преодоленное пространство, – звон посуды с кухни, смех воспитательниц, цоканье каблуков по паркетному полу. Кстати, о воспитательницах. Мартин много раз впоследствии силился восстановить какие-то дополнительные подробности, помимо тех, что всплывали в памяти сами собой, и решить для себя вопрос – были ли они настолько жестоки только к нему, или таковы они были со всеми воспитанниками? Но на ум приходили всегда одни и те же вещи. Госпожа Птолема. Большая закругленная женщина с лицом добродушной бесхарактерной няньки из детской сказки, вполне возможно, приятнейший человек в каких-нибудь других ситуациях. Как-то раз он попросил ее завязать ему шнурки на ботинках, так как сам еще не научился этого делать, а, когда покачнулся от резкого движения, которым госпожа Птолема дернула к себе его левую ногу, и ухватился рукой за ее плечо, чтобы не упасть, воспитательница подняла к нему лицо, перекошенное такой жгучей злобой, какую Мартин еще никогда в жизни не видел, и громко, надзирательским басом рявкнула:
– Не держись за меня!
С другими детьми его отношения тоже не задались. Его никто специально не обижал, но и водиться с ним отчего-то никто не хотел. Казалось, уже тогда все вокруг были объединены чем-то таким, чего у него одного среди них не было.
И каша. Омерзительная пресная манная каша с густыми комками в сероватых тарелках со сколами на краях, вызывавшая у него рвотные спазмы, которую нельзя было не есть, как нельзя было не ложиться посреди дня в постель и как нельзя было не пытаться влиться в общую игровую возню, что оказалось для него так же невозможно, как и заснуть.
Вероятно, все это длилось бы до самой школы, так как родителям он никогда об этом не рассказывал и той привязанности к ним, которая заставляет детей хотя бы изредка и только поначалу устраивать истерику, когда их оставляют на попечение чужих людей, у него не имелось, если бы однажды он не попал в больницу с застуженными почками после длительного пребывания в сидячем положении на холодном детсадовском полу. Этого оказалось достаточно, чтобы, к его величайшему облегчению, детский сад был отменен навсегда. С этого момента для него начались дни полного чудес и событий домашнего затворничества.
В декабре 19…-го Мартин уже умел читать, но еще не ходил в школу.
Мать брала его с собой, когда ей нужно было отправить письмо или купить овощей. Между почтой и газетным киоском, уже закрытым, она остановилась, чтобы почитать объявления, которыми был обклеен кусок кирпичного брандмауэра. Мартин тоже прочитал одно. Затем он повернулся и посмотрел на покрытую тонким слоем снега площадь. Только в нескольких местах гладкую сияющую поверхность нарушали чьи-то следы. Несколько фонарей делали различимым мрачный бронзовый силуэт. Было так тихо, как бывает только морозными зимними вечерами. Справа над площадью возвышалась башня с часами. Слева в густых сумерках светились желтые прямоугольники окон, похожие на пленку из слайд-проектора. Мартин посмотрел на мать, она была поглощена настенным чтением. Он двинулся вперед, по направлению к желтым окнам. Следовало идти быстро, но тихо. Он был готов к тому, что его остановят, но этого не произошло. До дома было двадцать минут ходьбы. Мартин слушал, как при каждом его шаге хрустит снег, и смотрел, как теплый свет из вечерних окон озаряет ржавые конструкции между домами, возведенные не то для детей, не то для собак. Никогда еще он не бывал в этих местах сам по себе. За весь путь он не встретил ни одного прохожего. Во дворе перед их домом тоже никого не было. Он присел на деревянные качели. Было по-прежнему очень тихо. Их окна светились так же красиво, как и окна других зданий. Каждое имело свой собственный оттенок желтого или оранжевого. В некоторых можно было различить хрустальную люстру под потолком или горшок с геранью на подоконнике.