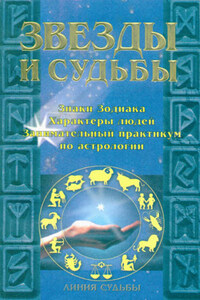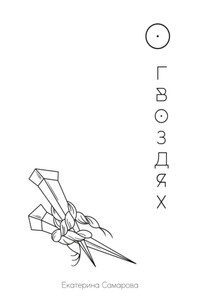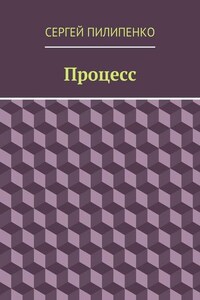Аум!
Вначале было слово.
За этим словом – еще одно слово.
Потом еще и еще. Еще и еще.
И когда от слов стало некуда деваться, появился человек. Его сделали для того, чтобы было кому слушать.
Но человек слушать не стал, а как раз наоборот – сам принялся без умолку болтать.
Тогда бог обиделся и смешал все языки.
А затем появился я.
Выбравшись из материнского чрева, оглянулся вокруг и сказал:
– Не лепо ли ны бяшет, братие?
Но «братие» хмуро молчали, ибо ничего не поняли из сказанного мной.
И стал я расти, свято веря в мечту, что однажды снизойдет на меня благодать и поймут меня все «языци», что услышит мое слово и тунгус, «ноне дикой», и «сын степей» калмык. Но время шло, а оно все не свершалось. Я матерел, становился эстетом, плавно, будто кусок мыла, входил в среду литературоведов и искусствоведов, этих авгуров и шаманов мира переплетов, этих ос, «сосущих ось земную», и сам начинал сосать, вернее, посасывать – так, чтобы на жизнь хватало и еще немного оставалось.
И я изучал Сартра и Камю с их экзистенциальной скорбью о мире, Пруста и Джойса с их тщетными поисками утраченного времени и не менее тщетными попытками досконально отследить путь хитроумного Улисса, многотомного Золя и еще более могучего Бальзака, ловил вместе с хэмовским стариком акулу у берегов Кубы и вникал в извивы больного воображения набоковских извращенцев – одним словом, преодолевал культуру и готовился к тому, чтобы однажды брякнуть по вещим струнам могучими перстами и взреветь всесокрущающим басом: «Гой, вы еси добры молодцы!» или на худой конец «Ревела буря, гром гремел!». А может, что-то еще, но обязательно столь же значительное и серьезное.
И вот – пора! Чувствую в себе силы необъятные, мысли нежданные! А что? Ведь писали же Достоевский или там граф Толстой! Даже какой-нибудь Писемский или Сергеев-Ценский бумагу марали! И в каком количестве! А я чем хуже? И мне пора! Труба зовет!
А стоит ли? Кто станет в наше время читать какую-то глупую книгу того же Сергеева-Ценского или Гарина-Михайловского в восемьсот полновесных страниц? Увольте. Тут дай бог газету в транспорте пролистать да телевизор на ночь послушать. «Беда, ой, беда, – шамкает беззубо гуманист-шестидесятник, воспитанный на могучих глыбах „Архипелага Гулага“, образных экзерсисах академика Лихачева и аллегорических намеках самиздата, – пропала русская культура! Пришел из-за черных гор проклятый буржуин и всю ее с кашей слопал…» «Заткнись, старый хрен! – отвечаю я ему. – Жива русская культура! Не сгинул еще Третий Рим! А вместо того, чтобы печалиться, возрадовался бы лучше, что времена изменились. Иначе бы уж я размахнулся Диккенсом томов на тридцать, растекся бы мыслью по древу, как Толстой, шмыгнул бы Достоевским по земли, взмыл бы Тургеневым под облакы…»
Но не писать мне ни как Достоевский, ни даже как Толстой. Не стану я зеркалом русской революции, не вспомнят обо мне метким словцом благодарные потомки, не назовут матерым человечищем. Не уподоблюсь я графу брадатому, не буду валять многотомные глыбы, не опишу своего первого бала и бескрайнего неба Аустерлица, не явлю миру старый дуб и вожделенную ночь в Отрадном, не стану сто двадцать два раза переписывать сцену свидания Анны с сыном… Не дождется алчное племя литературоведов от меня такой поживы! Спите спокойно, школьники и абитуриенты, вам не будет по ночам являться моя грозная тень!
Я буду краток, как Чехов и изящен, как Уайльд, занимателен, как Майн Рид, и ироничен, как Бернард Шоу, самобытен, как Бунин, и умен, как Моэм. Вперед! Пепел Клааса стучит в мою грудь! Вольные ветры веют в моей голове, пути конквистадоров манят вдаль! Лучше один раз напиться живой крови, чем жить триста лет и питаться падалью! Бежит, бежит степная кобылица и мнет ковыль: грае, грае, воропае, гоп, гоп!..
И пусть даже, свой жизни путь пройдя до середины, я (как и все прочие), очутился в сумрачном лесу, кто-то по-прежнему упорно нашептывает мне в ухо: «Memento mori»! А потом гундит, бубнит и бухает, как африканский тамтам: «Sic transit gloria mundi»! И еле слышным эхом рассыпается вдали: «Pecunia non olet-olet-olet…»
И я внимаю этому голосу. И с радостью отвечаю ему: «Yes it is. I am on duty today!» Мой долг зовет меня вперед. За мной, мой читатель! Без страха и сомнения! Как говорится, яду мне, яду!
Глава первая
Ab ovo, или Голый зад профессора Доуэля
Помню, когда мне было лет четырнадцать, я прочел роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Там описывалось, как голова означенного ученого после его смерти говорила, о чем-то думала, лежа на столе, и даже шевелила ушами. Все вокруг почему-то удивлялись и считали это великим научным открытием. Если не дословно, то что-то в этом роде.
А мне представлялась иная картина, я бы даже сказал иной сюжет. Представьте. Собирается этот знаменитый профессор откинуться, созывает консилиум, объявляет, что так, мол, и так – после смерти предоставляю свой мозг в распоряжение науки. Натрите мою голову вот этой мазью, хорошенько подымите перед носом жженой пробкой – и задавайте любые волнующие человечество вопросы. Все, конечно, от такого научного подвига в восторге, газеты чуть ли не каждый день об этом трубят, на профессора обрушивается народная любовь и целый дождь из всевозможных наград. В общем, когда и вправду наступает время откинуться, он уходит в мир иной вполне счастливым и заслуженным деятелем науки в окружении многочисленных последователей своей школы, скорбящих аспирантов и доцентов, стенающих истеричных барышень-первокурсниц и приживалок различных мастей. Дальше – все, как полагается: торжественная панихида, долгое прощание в Колонном зале, почетное место на Новодевичьем, памятник на народные средства… И вот наступает ответственный миг извлечения на свет божий (из формалина или, скажем, из жидкого азота) головы усопшего профессора. Собирается государственная комиссия, журналисты, все спускаются в подвал, открывают толстенную дверь сейфа и выдвигают из клочковатого тумана что-то полукруглое, белое, дву-полушарное. Комиссия недоуменно смотрит на поднос. Если это мозг великого профессора, то почему на полушариях так мало извилин? Где нос, глаза – и вообще человеческое лицо? Происходит всеобщее замешательство, журналисты пожимают плечами, но на всякий случай щелкают аппаратами. Наконец решают, следуя завету великого светила, все же натереть останки мазью, а потом подымить перед ними пробкой. Процедура проделывается в благоговейном молчании. И вот наконец все застывает в ожидании чуда. Сейчас будет произнесено неслыханное доселе Слово. Полушария медленно оживают, подрагивают и, кажется, даже немного розовеют. Наконец они слегка приподнимаются, поднатуживаются и… Немая сцена. Занавес.