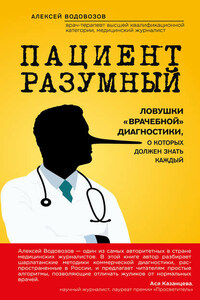И дернуло же их приехать именно в эти дни… Когда консьержка-француженка, крупноглазая начитанная брюнетка с рваной стрижкой под тинэйджера и кончиком носа под артишок, завидев, как она заходит в подъезд, быстро-быстро выбралась к ней из-за своей округлой конторки и, раскланиваясь, каким-то особенным звонким тоном с блестящими глазами начала приговаривать, экзальтированно вертя личиком: «Хорошего дня! Прекрасного денька Вам!», – в сердце, с сумасшедшим радостным стуком, уже ворвалось подозрение, что они – здесь, наверху, уже в квартире, что консьержка без нее тайком впустила их, отперев своим ключом, – но долгожданное счастье спугнуть было так страшно, что впрямую спросить консьержку она суеверно не решилась, – и из-за этого, пока шла вверх по ступенькам, сердце наоборот как будто срывалось с каждой ступеньки вниз, – и к тому моменту, как она вступила на площадку четвертого этажа, в голове и перед глазами уже вилось цветное марево, а сердце уже вело себя как напуганный ёж, – ёжилось, а потом вдруг быстро расправлялось и куда-то норовило убежать, пронзая, словно иглами, всё тело, так что и страшно было шевельнуться, – и, раньше чем шагнуть к двери своей квартиры, она ненадолго вросла боком в стенку (дряхлая кариатида-сибаритка), чтобы отдышаться и прогнать жаркий туман из висков.
Елизавета Марковна Святоградская, старейший (из живых) специалист по эмигрантской русской словесности двадцатого века, некогда державшая знаменитейший курс лекций в Сорбонне с незатейливым, но красноречивым названием «L’Eхode», давно ждала гостей. Майка, двадцатидвухлетняя троюродная, киселеюродная, внучатая племянница из Москвы, которую любила Елизавета Марковна чуть ли не как приемную дочь, – и которую вот уже два года, – да, почти два года, без малого! – два мучительных трагических года, с момента Болотных событий, она не видела, не могла увидеть, – должна была приехать к ней в гости в Париж вместе со своим новым другом, почти женихом, неким Борисом.
Собственно, лет Майке было почти столько же, сколько истории наездов Елизаветы Марковны, урождённой парижанки, в Москву – сначала краткосрочных, а уж затем и тех, которые, из затяжного квартирантства, казалось, закончатся уж полным переселением антиквариата живых костей. Сначала – та незабвенная, умопомрачительной победой казавшаяся, выставка эмигрантских книг в девяностом в Иностранке: коллеги подбили вместе поехать выступить на открытии, – визы, некоторый страх – словно едешь не в страну, где жили предки, а в полу-животную басурманскую Северную Корею, где с тобой всё что угодно могут сделать! – о, как запомнила в тот первый визит Елизавета Марковна тот особый запах тлена разрушающихся и полуразрушенных от ветхости и недостатка любви домов и в Тверских переулках, прятавшихся под чужими именами, и в Арбатских, и на горке над Цветным, и на Солянке, где всё гуляла как во сне, всё не веря, что мечта сбылась… И вид изувеченного города, как будто из него с боями отступает какая-то невидимая вражеская армия, покуражившаяся над ним почти три четверти века… А выхоленными (то есть гнилью не воняли) были лишь дома цековские, да гэбэшные, да генеральские, – но те все невыносимо воняли другим, вонью духовной проказы, уют на крови́. А родового домика-то, где некогда, в стародавние, жила ее бабка рядом с Брюсовым, до вынужденного бегства семьи в 1918-м, уже в живых и не обнаружилось: упал, видать, и умер, от разрыва сердца, не выдержав всего происходившего вокруг него, – чай не бетонный! – в отличие от заселившихся в него кровавых мародёров. Решил, видать, как верный домашний пес, лучше умереть, чем служить подлым новым хозяевам.
А после девяносто первого было… Да много чего еще было! Неожиданное предложение читать лекции в московском Историко-Архивном… Русские студенты… И какие студенты! Безграмотные, нищие, вечноголодные, по-русски изъяснявшиеся изломанным советским новоязом, – но какие удивительные чистые восторженные глаза! Выступления в МГУ, поездки по всей стране, которая, казалось, так жадно жаждала дорваться, наконец, до запрещенных книг – до той вольной, свободной, истинной русской культуры, уцелевшей лишь в изгнании, которая была в Советах под запретом всю ту страшную, драконову часть века, все то невообразимо долгое время черно-кровавой оккупации омертвелой, убитой, неживой (казалось навсегда) России… И те, безумные счастливцы, как и она сама, – уцелевшие, упасшие в мучительном долгом изгнании дух русского вольного творчества от расправы, – приезжали из-за рубежа и передавали клад дрожащими от счастья руками в дрожащие же от счастья руки тех, кто, казалось, был готов всё это богатство принять…
В живых, из дальних, троюродных, родственников in situ обнаружилась одна Ирина (дочь троюродной, по крайне кривой, изломанной, разомкнутой, линии, племянницы) – вот уж человек чуждый по духу до крайности: деловитая, корыстненькая, хабалистая советская заматерелая «экономистка», пристроившаяся где-то в кооперативе бухгалтером. Но жалко было и ее: и когда у Ирины родилась дочь, а муж ее бросил, а молока не было, – Елизавета Марковна привозила из Парижа чемоданами французскую сухую молочную смесь.
Майка… Как смешно и безуспешно Майка училась в детстве выговаривать её, Елизаветы Марковны, имя, а потом, бросая все попытки – и заплетаясь языком, тыча в нее пальцем, сама же смеясь своему никому больше не понятному младенческому юмору, – говорила ей исковерканно: «Майковна!» – уловив на своем собственном наречии какое-то косноязыкое гургукающее грассирующее созвучие со своим именем, а потом, когда научилась выговаривать букву «р», – то, то ли для кратости, то ли опять наслаждаясь детским картавым созвучием с собственным именем, обзывала ее: «Марька!», «Марка!» – да так почему-то всю жизнь и звала потом, когда выросла, ласково: «Маркушей».
Елизавета Марковна поначалу относилась к Майке с некоторой дистанцией, настороженно, словно к какому-то другому, дефективному биологическому виду, словно к тому, в ком течет драконова кровь, – маленький бойкий дракончик – чудовищные гены, потомок трех поколений советских рабов, и вопяще-неинтеллигентная мамаша. И к сердцу не допускала. Да и времени нянчиться особо не было – бесконечные разъезды и лекции, помощь Историко-Архивному – да ведь и как-то нужно находить время на продолжение собственных новых недописанных работ, исследований! Ирина сунула Майку уже в пять лет в какую-то школу современных танцев… Да и вообще Майка, несмотря на детское свое обаяние, уже самой своей фактурой, материалом из которого была сделана, как-то слегка настораживала Елизавету Марковну: вроде совсем была чужая, не своя, – казалось, уж слишком спортивная, уж слишком гибкая, физически слишком бойкая, нагловатая, – Елизавета Марковна такой никогда не была и справедливо рассуждала, по жизнью доказанному принципу, что «если где-то что-то прибыло – значит, где-то что-то убыло» – и не ожидала от физически бойкой Майки особых интеллектуальных и творческих проблесков. Но чем больше Майка взрослела – тем больше к Елизавете Марковне как-то крайне искренне изо всех сил тянулась – видимо, инстинктивно чувствовала в ней способ бегства из своей кровной – не очень-то веселой – жизни в Свиблово, из бухгалтерской крикливой серости мамаши. Ирина сначала и сама корыстно как будто подпихивала Майку к Елизавете Марковне – надеясь на подарочки да на полезные связи для Майки в будущем, – но когда Ирина заметила и осознала в Майке вот эту вот тягу от нее сбежать, – начала ревновать.