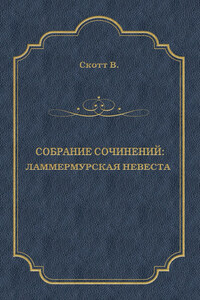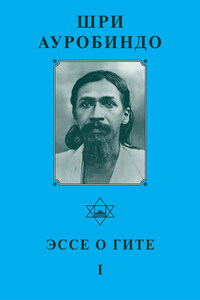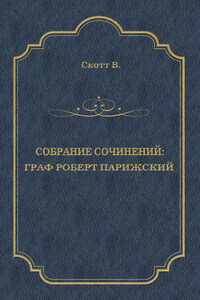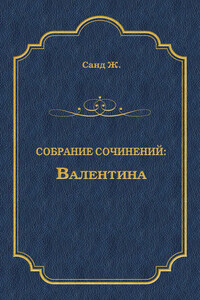На колокольне церкви Святого Фомы Аквинского пробило час ночи, когда еле заметная черная тень скользнула мимо высокой, осененной деревьями каменной ограды одного из тех прекрасных садов, которые еще изредка попадаются в Париже на левом берегу Сены и так пленяют жителей столицы. Ночь была теплая и ясная. Цветущий дурман разливал упоительный аромат; в лучах луны его высокие стебли казались белыми призраками. Монументальный подъезд особняка Бланшемонов еще хранил следы былого великолепия, а большой, содержавшийся в порядке сад усиливал впечатление роскоши этого тихого дома, где сейчас уже погасли все огни.
Над садом светила яркая луна, и это слегка тревожило молодую женщину в трауре, которая направлялась по самой темной аллее к небольшой калитке в конце ограды. Однако она шла обычным решительным шагом, ибо не в первый раз приходилось ей рисковать своим добрым именем ради возвышенной любви, которая уже перестала быть запретной: месяц тому назад молодая женщина овдовела. Укрываясь в тени густых кустов акации, женщина незаметно достигла потайного выхода в узкую безлюдную уличку.
Почти в то же мгновенье калитка отворилась, и тот, кого она ждала, осторожно вошел и молча последовал за своей возлюбленной к небольшой оранжерее. Войдя в нее, они заперли за собой дверь. Но, повинуясь безотчетному чувству стыдливости, молодая баронесса де Бланшемон поспешила зажечь по-видимому заранее припасенную здесь свечу; она вынула из кармана крошечную сафьяновую коробочку и высекла искру. Молодой человек, робкий и почтительный, с простодушным усердием помогал ей. Он был так счастлив, что может любоваться ею!
Окна оранжереи были закрыты глухими деревянными ставнями. Скамейка, несколько пустых ящиков, садовые инструменты и тонкая свеча, вставленная в надтреснутый цветочный горшок, – такова была обстановка и освещение этого, теперь заброшенного, будуара, некогда служившего для тайных свиданий какой-то маркизе.
Ее правнучка, белокурая Марсель, была одета с той скромностью и строгой простотой, какая подобает целомудренной вдове. Чудесные золотистые волосы, падавшие на косынку из черного крепа, были единственным ее украшением; нежные белые руки и изящные ножки в атласных туфельках – единственным доказательством ее аристократического образа жизни. Впрочем, ее можно было принять и за подругу молодого человека, стоявшего перед ней на коленях, за парижскую гризетку{3}, ибо чело иной гризетки достойно венца королевы или ореола святой.
Черты Анри Лемора были скорее приятны, чем красивы, и выражали ум и благородство. Густые черные волосы подчеркивали суровую бледность смуглого лица. В нем можно было сразу угадать дитя Парижа – сильный духом, он был слаб телом. Простая опрятная одежда выдавала его скромное положение, а небрежно завязанный галстук свидетельствовал не то о презрении к моде, не то о рассеянности человека, поглощенного своими мыслями; и стоило взглянуть на его коричневые перчатки, чтобы убедиться, что он, – как сказали бы слуги особняка Бланшемонов, – не годился их госпоже ни в мужья, ни в любовники.
Молодая чета – они были почти в одном возрасте – уже не раз проводила в этом павильоне отрадные часы под таинственным покровом ночи, но вот уже месяц они были разлучены: прискорбное событие омрачило их любовь. Анри Лемор был удручен и растерян, тревожные предчувствия сжимали сердце Марсели де Бланшемон. Он опустился перед ней на колени, как будто благодарил за последнее свиданье. Но вдруг поднялся, не проронив ни слова; вид его выражал сдержанность, почти отчужденность.
– Наконец!.. – произнесла Марсель с усилием, протягивая ему руку; он порывисто поднес ее к губам, но лицо его не озарилось радостью.
«Он разлюбил меня», – подумала Марсель, закрыв лицо руками и холодея от ужаса.
– Наконец? – повторил Лемор. – Вы хотите сказать уже? Конечно, мне надо было преодолеть желанье видеть вас и ждать еще, но я был не в силах, простите!
– Я вас не понимаю, – с тоскою сказала молодая женщина, в изнеможении опуская руки.