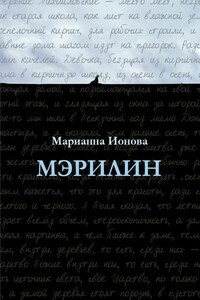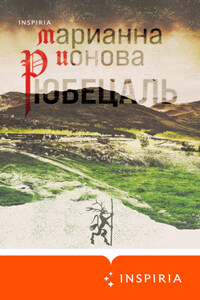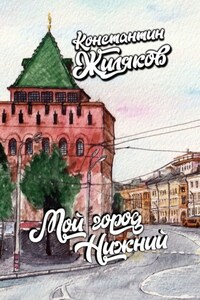Если о жизни нет текстов, то и говорить об этой так называемой жизни незачем: глупо, пошло, бессмысленно. С другой стороны, бывают такие способы обращения с действительностью, что лучше б с нею никто и никак не обращался. Эта проблема может называться классически «правда и правдоподобие». А может и каким иным образом, не важно.
Важно произнести опасный термин: мимесис. Мы боимся подражания реальности, и правильно делаем: реальность настолько уже становится нереальной, что лишь авангардные способы интерпретации, казалось бы, способны ее транслировать как следует. А вот нет: просто холодное, но одновременно чувственное, лаконичное, но одновременно барочное, изысканное письмо способно произвести нечто четкое, как говорят подмосковные пацанки.
«Я встречался с девушкой – познакомились на вступительных в ФизТех. Я срезался, а она прошла. Мы переписывались, пока я был в армии, потом я вернулся, поступил в Горный, и целый год идиллия была полнейшая, пока однажды мы крупно не поссорились. Я первый раз всерьез приревновал и не без повода. Она отдалилась, избегала меня, а потом я узнал от кого-то, что она собирается замуж. Нашел ее, потребовал объяснений, и тут она заявляет, что никогда не любила меня, а просто испытывала сокурсника. И он выдержал испытание с честью – теперь ведет ее в ЗАГС. Какова выдержка у обоих?»
Вот просто истории, которые рассказывает Марианна Ионова. Особая интонация – интонация констатации: интонация, превращающая описываемый мир в нечто вполне узнаваемое. Неуютное, но родное. Подлинное.
Странно, что проза в ее повествовательном, нарративном изводе вообще существует: пересказывание происходящего должно б, по идее, остаться речевым жанром, уйти в устную речь. Но вот от чего-то иногда получается: получается жить в тексте, жить с помощью текста.
«За все время в Вене они только два раза были вдвоем. Они спали на разных кроватях, через тумбочку. Юрия изводила привязавшаяся последний год бессонница, но он не вставал, чтобы упаси Бог не разбудить. Повернувшись набок, он глядел на спящую Таню, и порой та вдруг открывала глаза и лежала так минут пять, уставившись в потолок, прежде чем отвернуться к окну и вновь задышать сном».
Мне здесь ценны и важны такие платоновские почти вещи, как «задышать сном». Для меня значима эта интонация человека, знающего, как живут человеки – не воспроизводящего ложные модели, досужие вымыслы, клише наконец, – но понимающего модальность, векторность и структуру выморочной ежеминутности, того липкого и страшного, что существует между бытием и небытием, в чем мы прибываем постоянно, чего мы боимся и вне чего мы не умеем толком существовать, – хотя, возможно, и хотим прорваться в нечто более возвышенное. Ионова умеет показать эту безнадежность прорыва (повесть «Таня Блюменбаум», по мне, как раз про это).
Мы живем в эпоху расцвета поэзии, с прозой же всё несколько сложнее. Но эта книга вселяет надежду, дарит радость, терзает, как должен терзать хороший текст.
Иногда словно кто-то окликает меня по имени
«Как же я поеду, – сказала я, – у меня же ничего с собой нет»
«А что нужно? Зубная щетка… Так мы ее в аптеке купим»
И верно, вот аптека, только я думаю: нет, не поеду, но это я для него думаю, как будто он может читать мои мысли, а самой очень хочется ехать. Мы заходим в аптеку и покупаем мне зубную щетку. А машина стоит припаркованная у тротуара – «трабант». В маленьких чешских городах до сих пор их видишь, и в восточно-немецких тоже.
Это был ранний сон, потом снилась школа, и я залезаю на подоконник и смотрю через форточку вниз, внизу почему-то река, и потом я стою ночью в Милютинском сквере и держу фотографию, по которой должна узнать Толю, потому что он вот-вот придет, а вокруг какие-то цыгане – жгут костры.
В жизни никогда ничего не происходит. Жизнь сама происходит. Происходит от меня и от Толи, и от ребят, играющих в баскетбол на баскетбольной площадке, и когда мяч ударяется о заградительную сетку, такой звук, как будто рассыпали что-то блестящее и серебрящееся, вроде рыбьей чешуи. Ребята разного возраста, постарше и белобрысые лет двенадцати, и среди них одна девочка, то есть, девушка в длинной белой футболке, и я знаю, что ее зовут Галя. Она в белой футболке, а должна быть в коричневом платье с черным фартуком, потому что о ней рассказывал Толя, она из того Верхнего Михайловского переулка, когда Дача Голубятня была еще детской библиотекой, а не рестораном «Граф Орлов».
Но она ведь и наполовину я.
Я часто встречаю на улице девушек, похожих на Галю: высокая и тонкая, с маленькой головкой и прямыми волосами. Туловище, или лучше по-балетному корпус у таких девушек всегда чуть откинут, спина прямая-прямая до прогиба в пояснице, ленивые гибкие ноги. Они всегда смугловатые, с маленькими глазами и маленьким ртом.
Но Галя лучше их, потому что она настоящая, и волосы у нее не висят мертво до пояса, а разбросаны по плечам или собраны в «конский хвост».
И те девушки никогда не смеются и не кричат, а Галя смеется и кричит.
Она мне приснилась по рассказам Толи. Она однажды спасла ему жизнь, но это долгая история, которой даже я не знаю.
В баскетбол я играть не умею, и сажусь на кровати, проснувшись, и вспоминаю, как Толя сказал, что отчаянье – самое человеческое состояние. И мы еще поспорили об этом. Я потом сказала: растерянность – самое человеческое. Но я не Галя и никогда не стану ею.
Я хочу пройти сквозь жизни людей, не застревая ни в одной жизни. Как я выхожу на станции метро «Октябрьское поле» или «Первомайская», где никто и ничто меня не ждет, и хожу часами, испытывая «непривязанность» на себе, себя на неприкаянность.
Они искали 4-й Верхний Михайловский проезд, и не могли найти, потому что спрашивали переулок.
Мужчина и женщина. Он лет шестидесяти, темный, с впалыми щеками, на шее женская косынка в горошек, она лет сорока пяти, белесая, коренастая, одета как по-летнему для церкви: белая блузка и юбка до пят.
«Это ведь от Плющихи близко», – то ли спросила, то ли сказала женщина.
«От Шаболовки»
«Вот, – она успокоительно повернулась к мужчине, – От Шаболовки»
Он смотрел ни на нее и ни на меня, а куда-то поверх.
«Вам повезло: я живу в тех краях. Сейчас вместе сядем на «аннушку», и я с вами сойду»
Она улыбнулась вместо «спасибо», и щеки стали матово-румяными.
«Мы из Ярославля. Это мой брат. Он не говорит: связки ему вырезали. У нас тут сестра живет, только мы с детства не видались. Представляете? С детства не видались…»
Однажды ночью на Малой Калужской за нами с Толей долго шел юноша, по голосу лет восемнадцати, но на самом деле – почему-то мне подумалось – старше. Поравнявшись, он сказал: