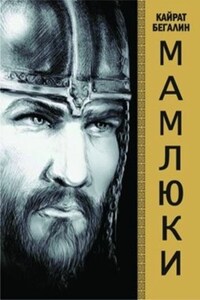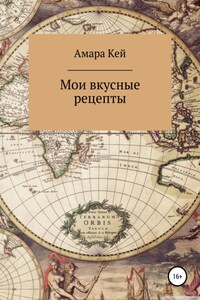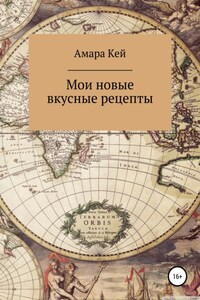У нас заводят знакомства легко, без лишних церемоний, в крестьянских хатах нет дверных замков, да частенько и самых дверей, а ворота помещичьих усадеб широко растворены для каждого. Ежели случится гостю подоспеть к вечерней трапезе, на лицах хозяев не появится выражение печали или озабоченности, как бывает в уютной Германии, членам семейства и в голову не придет поодиночке прокрадываться на кухню, дабы там тайком спешно проглатывать скудный ужин, а на праздники, когда издалека приезжают родственники и друзья, хозяева забивают бычков, телят и свиней, режут гусей и уток, вино льется рекой, словно во времена Гомера.
Вот и я однажды запросто, как это водится между сельскими дворянами, заглянул к Бардозоским, а вскоре стал бывать у них всякий вечер. Их усадьба располагалась на невысоком холме, сразу за которым возвышались зеленые отроги Карпат. Атмосфера в этом семействе царила весьма и весьма приятная, тем более что обе дочери уже обзавелись поклонниками, а младшая даже была официально обручена, и потому в их обществе я не только чувствовал себя непринужденно, но даже немного ухаживал за обеими, ибо полячки обыкновенно полагают невежей любого, не оказывающего им знаки внимания; однако я не опасался, что во мне начнут видеть возможного жениха.
Господин Бардозоский был настоящим помещиком, простым в обращении, богобоязненным и гостеприимным, отличался неизменной ровной веселостью, однако не без того спокойного достоинства, которому не нужно никаких внешних проявлений, дабы вызвать уважение. Его супруга, маленькая, пухленькая, до сих пор не утратившая прелести брюнетка, властвовала над ним безраздельно, словно Мария-Казимира – над великим Собеским, но существовали вещи, коими старик шутить не любил, и тогда ему довольно было покрутить длинный ус или в раздражении выпустить из трубки облачко голубого дыма, быстро превращавшееся во внушительную завесу и скрывавшее его подобно отцу богов Зевсу, чтобы никто более не осмеливался ему перечить. Мне ни разу не случилось видеть его без этой турецкой трубки, с головкой красной глины, с длинным чубуком и с янтарным мундштуком, самый вид которой точно говорил попавшему к нам чужеземцу: «Ты не в Европе, друг мой, ты на Востоке, отсюда происходит вся твоя мудрость, из этих неиссякаемых источников не устают черпать вдохновение все твои поэты и мыслители». Бардозоский в 1837 году сражался под знаменами Хлопицкого, а в 1848-м примкнул к войску Бема и был ранен под Шессбургом. В 1863 году он отправил своего единственного сына к повстанцам, в чьих рядах тот и погиб, сраженный казацкой пикой; о сыне в семье никогда не упоминали, и лишь портрет его, обрамленный увядшим венком с запылившимися траурными лентами, висел над постелью старика меж двух скрещенных изогнутых сабель.
Старшая из сестер, Кордула, была, как принято говорить, интересной, высокой и статной, с пышными темными волосами, ровными зубами, серыми глазами, в которых читались проницательность и ум, и лицом, коему и маленький вздернутый носик, и пухлые губки придавали выражение надменной уверенности в себе и даже непреклонности. Младшая, Анеля, напротив, принадлежала к числу тех нежно-белокурых, розовощеких красавиц, что вечно кажутся утомленными, чьи голубые глаза словно видят сны наяву и которые не переводят дыхание, а словно вздыхают. Она-то и носила кольцо, знак помолвки.
Познакомился я и с двумя молодыми людьми, завоевавшими сердца столь разных сестер. Поклонником старшей был некий господин Гусецкий, который занимал должность судебного адъюнкта в ближайшем городке. Он отличался серьезностью и усердием в изучении наук, столь свойственными ныне молодому поколению, одевался по французской моде, носил очки и непрестанно поправлял белоснежные манжеты.
Женихом прекрасной Анели был сосед-помещик, некий Манвед Вероский, пригожий молодой человек с ослепительно-белыми зубами под маленькими черными усиками, с коротко стриженными, вьющимися темными волосами и с томным взором. Он неизменно носил белые панталоны, заправленные в высокие черные сапоги, и черную же венгерку. Он курил сигары, любил поговорить о литературе и способен был наизусть продекламировать сотни стихов из «Пана Тадеуша» и «Конрада Валленрода» Мицкевича. Его коронным номером была история Домейки и Довейки, и он умел изобразить поединок сих шляхтичей, разделяемых медвежьей шкурой, с таким обилием драматических деталей, что всякий раз забавлял даже старика-хозяина, с трогательной непосредственностью улыбавшегося в седые усы.
В доме Бардозоских был принят и третий молодой человек, имевший обыкновение вечно опаздывать, и эта привычка превратилась для него в подобие злого рока, ибо он опоздал также покорить сердце панны Анели и довольствовался тем, что непрерывно созерцал ее прекрасный облик, и стоило ей только пошевелиться, как он вскакивал и бросался за самыми разными предметами. И так уж повелось, что, хотя он воображал, будто угадывает ее желания, он вечно приносил скамеечку для ног, когда ей требовались ножницы, или доставлял по воздуху за загривок маленького спаниеля, когда она искала увлажнившимся от слез взором платок. Звали его Мауриций Конопка, он арендовал соседнее имение, где вел хозяйство при помощи выписанных сеялок, веялок, жаток и сенокосилок и вообще, к изумлению крестьян, точно следовал во всем предписаниям ученых агрономов. Он всегда являлся во фраке, белом жилете, лайковых перчатках, ажурных чулках и бальных туфлях. Поскольку сей молодой человек неизменно приходил, когда все были уже в сборе, и, более того, старался войти неслышно, подобно привидению, то обыкновенно его замечали, только когда он неожиданно оказывался посреди покоев, а так как он почитал неприличным предупреждать свое появление громким приветствием или покашливанием, все, завидев его, внезапно вздрагивали, за исключением старого героя, который лишь на мгновение вынимал изо рта трубку, что уже было немало.
Мауриций был необычайно хорошеньким юнцом, из тех, каковым оказывают предпочтение зрелые, опытные красавицы, но каковые едва ли представляют собою идеал юной девы, а посему ему выпала жестокая участь из вечера в вечер (а вечера в Галиции долгие) играть в тарок с господином Бардозоским и серьезным адъюнктом, в то время как мы беседовали с барышнями.
Жених Анели с самого начала расположил меня к себе. Он был превосходным рассказчиком, чем заслужил в глазах многих репутацию враля и бахвала, зато, как правило, единолично развлекал собравшихся, не изменяя при этом скромности, которая делает поляка столь приятным в дамском обществе. Мы близко сошлись, частенько бывали друг у друга и то и дело охотились вместе. Когда ввечеру мы возвращались к нему в имение, усталые и изголодавшиеся – ни дать ни взять семеро швабов, добывшие на охоте одного-единственного зайца, – служанка тотчас вносила самовар, а вышколенный слуга Валентий прибегал стаскивать с нас грязные сапоги. Тут уж, как я ни отказывался, меня, не внемля моим увещеваниям, непременно облачали в один из роскошных халатов Манведа, на ноги мне надевали его сафьяновые домашние туфли, хозяин собственноручно набивал для меня длинную трубку, и мне не оставалось ничего иного, как проводить ночь под его гостеприимным кровом.