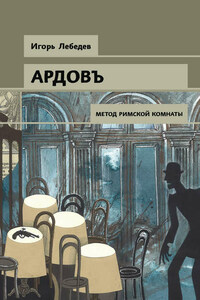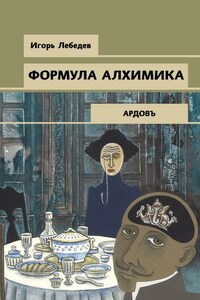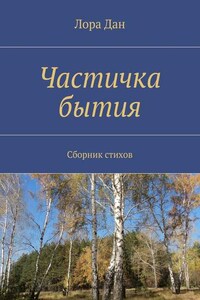На набережной Фонтанки у выхода с Апраксина переулка мальчишка-оборванец жалостливо тянул босяцкую песенку, примостившись у наваленных горой вонючих бочек. Нежданная монетка, ударившая в жестянку, вынудила его отвлечься от созерцания свинцового питерского неба и посмотреть в спину щедрого прохожего. Это был господин двадцати с небольшим лет в дорогом, хоть и не новом костюме. В его облике можно было отметить ту степень небрежности, по которой легко угадывался человек, проведший некоторое время за границей.
За прохожим тут же увязалась пара жиганов, но, сопроводив его до дома 91 на углу Горсткиной, они, сплюнув, отстали. Здесь располагалось полицейское управление третьего участка Спасской части, о чем сообщала табличка у входа. Часть эта имела славу самого неблагополучного района столицы из-за «Вяземской лавры» – целого квартала соединенных тайными проходами доходных домов между Сенной площадью, Обуховским проспектом и набережной Фонтанки. Грабежи и поножовщина были тут делом самым обыденным. Кабаки, бани и притоны «лавры» кишели чернью, обсуждавшей за кружкой браги, где чего плохо лежит, воловеры[1] бахвалились добычей, а бывалые мазы[2] выслушивали доклады звонков[3] после ашмалаша[4] благопристойных петербуржцев, забредавших сюда в поисках дешевых наслаждений в Таировом переулке.
Неподалеку брехали собаки. Задержавшись перед дверью, молодой человек поежился, извлек из жилетного кармашка часы, открыл крышку и, даже не взглянув на время, приложил механизм к уху: послышалась изысканная мелодия. Потом он протянул руку и открыл было дверь, но внутрь пройти не успел, поскольку был бесцеремонно оттеснен медвежьего вида околоточным надзирателем с пышной рыжей бородой, сквозь которую проглядывала похожая на рубль серебряная медаль «За усердие» с профилем царя. Полицейский волок в участок упирающегося голодранца, сжимая в другой руке моток проволоки.
– Не крал! Не крал, ваше благородие! – верещал голодранец. Он протянул свободную руку к молодому человеку, словно желал увлечь его за собой в качестве свидетеля, но околоточный с силой втолкнул воришку внутрь.
В участке пахло потом, керосином и табаком. У приемного стола, огражденного захватанной деревянной балюстрадкой, сгрудились просители, ожидавшие очереди. По лавкам дремали те, кому торопиться было некуда. За столом сидел пузатый полицейский чиновник Облаухов и потягивал чай из стакана в медном подстаканнике. Перед ним на листе с типографским заголовком «Протоколъ» лежало яйцо, которое он неторопливо освобождал от скорлупы, выслушивая старичка, примостившегося рядом на краешке стула. Проходя мимо, околоточный бросил проволоку на стол Облаухову.
– На стройке, гнида, спер! В Мучном переулке.
– Мое почтение, Константин Эдуардович, – пискнул воришка, стараясь на ходу поклониться толстяку.
Завидев рыжебородого, дремавший у кутузки охранник подхватился и принялся возиться с замком.
– Свешников, зачем тебе проволока? – весело поинтересовался Облаухов, отодвигая вещественное доказательство на край стола. – Неужто обет взял? Решил вериги на себя возложить?
– Не брал! Константин Эдуардович, вот те крест – не брал! – задержанный попытался перекреститься левой рукой, потому что за правую его крепко держали. – Иду – она лежит.
– А чего ж бежал, гнида? – Околоточный толкнул воришку в кутузку, где на лавках уже дремала парочка начинающих марвихеров[5].
Попав за решетку, Свешников обрел чувство покоя и защищенности. Приняв полную достоинства позу, он с некоторой торжественностью ответил:
– Желая избежать всегдашнего с вашей стороны необоснованного насилия, господин квартальный надзиратель!
Смелый ответ остался без реакции. Свинцов сел за свободный стол, снял фуражку, промакнул платком начисто выбритую голову и придвинул к себе чернильный прибор.
– Управляющий придет, заявление сделает, – сказал он, ни к кому особо не обращаясь. – Рапорт сейчас составлю.
Облаухов вернулся к прерванной беседе с понурым старичком.
– Что ж вы, Лавр Семенович, такие ценные рукописи по пролеткам разбрасываете?
Старичок вернул на нос пенсне, которое все это время усердно тер платочком, и застенчиво улыбнулся:
– Виноват, задремал…
– Могу я видеть господина пристава?
Вопрос молодого человека в заграничном костюме, сумевшего протиснуться к столу, прозвучал неуместно и даже дерзко. Оценив опытным взглядом важность просителя, Облаухов не нашел оснований для излишне учтивого обращения:
– Извольте обождать, – строго урезонил он несдержанного господина и вернулся к старичку, сделав сострадательное лицо: – А номер-то экипажа запомнили?
– В том-то и дело, что нет!
Несчастный искренне переживал неприятное происшествие и всем видом показывал, что признает за собой и непростительное легкомыслие, и даже в некотором смысле недопустимую безответственность, повлекшую самые нежелательные последствия. Обмакнув перо в чернила, Облаухов принялся писать в протоколе. Отсутствие четкой оценки произошедшего со стороны полицейского не позволяло старичку унять волнение.
– Умоляю, назначьте расследование! – взмолился он дрожащим голосом – Рукопись ценнейшая.
В этот момент за спинами посетителей раздался пронзительный поросячий визг. Все обернулись. Поросенок висел вверх ногами в руке вошедшего городового Пампушко и энергично брыкался. Другой рукой полицейский тащил за шкирку мальчишку. Рядом причитала крестьянка. Выскользнув из собственных лохмотьев, малолетка попытался было улизнуть, но Пампушко бросил животину и навалился на верткого беспризорника.
– Сироту калечат! – привычным манером заголосил мальчишка.