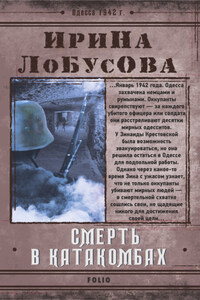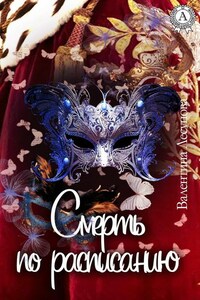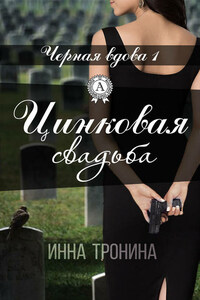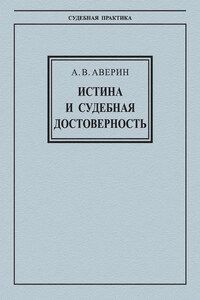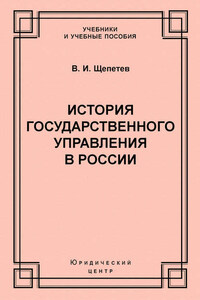В вагоне поезда. Странные пассажиры. Попытка ограбления. Коцик и Топтыш
Старый вислоухий пес с облезшим хвостом семенил вдоль железнодорожной насыпи, обгоняя вагон. Светлые подпалины пробивались через его грязную шерсть, а в слезящихся глазах застыло выражение унылой покорности судьбе. Это выражение как можно точно характеризовало ту холодную, грязную осень, которая грустила за закопченными окнами медленно двигающегося поезда.
Разбитый вагон, в котором ехала Таня, представлял собой нечто среднее между теплушкой и первым классом. От первого класса были грязные окна, с которых давно содрали шторы, а от теплушки – отсутствие большинства сидячих мест. Непонятно по какой причине скамьи для сиденья в вагоне были выломаны с «мясом», впрочем, так же, как и перегородки между купе. И лишь где-то оставались поломанные остовы, на которых можно было кое-как сидеть.
На все это страшно было смотреть. Как сказала одна из немногочисленных пассажирок этого странного поезда, он был «обчищен для нужд пролетариата», и всем своим видом как бы дополнял промозглую осень, которая безрадостно тянулась за окнами.
Прислонившись к холодному стеклу воспаленным лбом, Таня с тоской наблюдала за вислоухим псом, сама себе напоминая это бездомное животное.
Поезд полз так медленно, что, казалось, не движется вообще. Охая и кряхтя железными костями, он останавливался на каждом полустанке, на каждом отрезке пути, словно пытаясь задержать навсегда уходящее прошлое.
Рельсы были раскурочены. Изредка вдоль железнодорожной насыпи виднелись почерневшие, обугленные останки чего-то. Таня все не могла разобрать: то ли это горели дома, то ли пожар уничтожил деревья и телеги.
Местность была страшной, пустынной. Темными ранами на обличье земли чернели голые, абсолютно голые заброшенные поля, на которых ничего не росло – и уж, похоже, ничего вырасти не могло. Их было значительно больше, чем сел, встречающихся на протяжении этой долгой унылой дороги по направлению к Измаилу.
В течение всего пути Таня сто раз уже успела раскаяться в том, что села в этот поезд. Может быть, она и выпрыгнула бы уже, и пошла назад, но… Но ей мешала воспаленная, до вздувшегося, окровавленного нарыва, гордость. И эта гордость заставляла ее сидеть на поломанной скамье, прижимаясь к стеклу горячим от таких же горячечных мыслей лбом.
На каком-то полустанке вагон заполнился людьми. Напротив Тани очутились двое: молодой мужчина и женщина. Они были настолько похожи, что нельзя было сомневаться в их родстве: брат и сестра. Даже движения и жесты были одинаковы.
Они не походили на сельских. На женщине была хоть и потрепанная, но фасонная шляпка и коричневое платье – когда-то модное, но уже с заплатами на локтях. На мужчине – военная шинель с сорванными погонами. Дама сжимала ручку пузатого саквояжа. Кожа его лопнула сразу в нескольких местах, и оттуда вылезали какие-то сизые, неопрятные куски пакли.
Все это вместе свидетельствовало о страшной, ужасающей бедности, которая вдруг обрушилась на мир.
Тане подумалось, что и сама она выглядит не многим лучше в этом перевернутом мире, где женщины больше не носят новых платьев. А вместо румян на их лице – выражение отчаяния и печали, похожее на застывшую маску.
– Вы до Измаила едете? – Женщина вдруг повернулась к Тане, и в глазах ее появилось даже нечто похожее на блеск – так приятно было для нее присутствие собеседницы.
– Не знаю еще, – Таня устало качнула головой.
– А мы с братом от самого Аккермана едем. Говорят, что в Измаиле тиф. – Она даже не вздохнула, говоря о тифе как о самых привычных вещах; собственно, так и было в том мире, где они все очутились.
– Где его сейчас нет, – в тон ей ответила Таня, всмотревшись в усталое лицо женщины и сразу увидев в нем благородство. В прежние времена она могла быть классной дамой, курсисткой. Но сейчас, здесь это был всего лишь придорожный листок, подхваченный ветром…
– Можем и не доехать до Измаила, – вмешался в их разговор брат, – говорят, на пути банды. Вдоль всего железнодорожного полотна. Поезда обстреливают.
– Слухи это! – Сестра всплеснула руками. – Мало ли что говорят! Мы ведь думали, что и поезда не ходят. А вот едем.
В этот момент, как бы противореча ее словам, поезд издал какой-то утробный хрип и вдруг резко стал, задрожав всем своим металлическим телом.
– Воронка… Снаряд… Облава… – раздались голоса, сразу со всех сторон, и тут же появился проводник. Хитрый и жадный (чтобы зайти в вагон, Таня сунула ему деньги), этот пролетарий зло поблескивал глазами, злорадно потирал руки и хрипло приговаривал, идя по всем вагонам:
– Ну что, буржуи, приехали? Воронка в рельсах! Если залатают до конца дня, поедем… – и шел дальше.
Чувствуя, что сходит с ума, что не высидит здесь больше ни единой секунды, Таня вдруг сорвалась с места, прошла стремительно через весь вагон и остановилась в открытых дверях, глядя на железнодорожную насыпь.
Оказалось, что они стоят возле какого-то села: в отдалении виднелся приземистый, серый барак железнодорожной станции, чуть поодаль на боку лежала перевернутая крестьянская телега, а вдалеке виднелись камышовые крыши убогих хижин.
– Не выходите, – за спиной у Тани внезапно вырос брат соседки из поезда, – они без предупреждения стреляют.
– Кто – они? – с недоумением и пренебрежением, которого она не смогла скрыть, обернулась к нему Таня: ей вдруг подумалось, что явный интерес, который проявлял к ней этот жалкий человек – уставший, небритый, почти больной, в старой, с чужого плеча, шинели, – выглядит абсолютно неуместно и просто нелепо.
– Здесь кто угодно может быть. – Мужчина, уловив интонацию Тани, тем не менее сделал шаг вперед, словно загораживая собой ее. – Банды, красные, дезертиры всех мастей. Они на еду идут. По поселкам ходят.
– Откуда вы знаете?
– На фронте был, офицером.
– Вы красный? – нахмурилась Таня.
– Почему обязательно красный? Вы ведь тоже не крестьянка, – усмехнулся он.
– Ну да, я воровка, – бросила Таня с вызовом, – воровка с одесской Молдаванки.
Мужчина захохотал. И Таня вдруг почувствовала, что этот смех стал его страшной ошибкой – за эти секунды она успела его возненавидеть. А почему – не могла бы и сама сказать.
– Одесса не под красными, и никогда не будет под красными, – мужчина вдруг заговорил быстро и тоном заговорщика: – Скоро придут части Добровольческой армии, и тогда…
– Зачем вы мне все это говорите? – фыркнула Таня. – А если я донесу?
– Я чувствую в вас родственную душу. Вы не донесете…
Выстрелы раздались в тот самый момент, когда Таня уже собиралась ответить что-то меткое, язвительное, подходящее к случаю. Она всегда была остра на язык, а теперь, когда нервы ее были напряжены до предела, и вовсе не собиралась сдерживаться в выражениях.