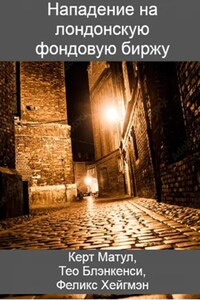Миссис Больфем решила совершить убийство.
Когда она рассматривала восторженные лица пятидесяти с чем-то членов клуба «Пятница», обращенных к известной нью-йоркской докладчице, которую она, как председательница, представила собранию, сказав при этом несколько слов, которые она так прекрасно умела подбирать к случаю, она ощутила легкий толчок, и ей показалось, что это важное решение росло в ее рафинированном и живом уме месяцы, а может быть годы, так как она не была импульсивной особой.
Одобрительно улыбаясь и похлопывая своими большими, сильными руками, в девственно белых перчатках, в самые подходящие моменты, когда оживленная ораторша излагала законы о женских правах, она в то же время задавала себе вопрос, не гнездилась ли эта мысль в ее подсознании – этой умственной лавке древностей, – по крайней мере половину двадцати двух лет ее замужней жизни.
Но только вчера, неожиданно проснувшись, она созналась себе без дальнейшей борьбы и отступлений перед совестью и принципами, как она ненавидела эту грузную массу мяса, тяжело спавшую рядом с ней.
По крайней мере восемь лет, с тех пор, как их состояние улучшилось и у нее было достаточно времени для чтения романов и пьес популярных авторов, она тосковала о собственной комнате, об отдельном, личном существовании. Она не была мечтательницей, но именно такая комната, с целомудренной обстановкой в холодных, бледно-голубых тонах, постоянно вставала перед ее умственным взором.
Тревожным инстинктом она ощущала безнравственность пурпурового цвета с лавандой. Днем это был бы будуар.
Она была слишком благоразумна, чтобы говорить об этом или обратиться за советом к постороннему, тем более, что ее единственным руководителем была сцена. Но там все эти мелочи жизни были случайны, или противоречивы. Маленький мирок миссис Больфем единогласно признавал ее большие познания, никто из них, даже отдаленно, не подозревал, что есть вещи, которых она могла не знать и ограниченность ее знаний даже не подвергалась обсуждению. Рано или поздно ее могли опередить, но ее образ действий внушал уверенность, что она на голову выше всех женщин, окружавших ее, что она их прирожденный и естественный вождь.
Миссис Больфем никогда не говорила о своем желании иметь отдельную комнату, будучи женщиной, которая обдумывала медленно, говорила осторожно и вместе с тем была терпелива и рассудительна. Она редко позволяла себе то, что она называла «полетом воображения» и не допускала, чтобы горечь наполняла ее душу.
Больфемы даже теперь не были достаточно богаты, чтобы завести новую обстановку для спальни, лишенной много слишком экономными родителями с тех пор, как их дети поженились и разъехались. Но несколько дней назад она случайно заметила, что пружины супружеской кровати осели и не мешает продать ее, а вместо одной купить две отдельных. Ночью, в темноте, она стиснула руки и затаила дыхание, когда вспомнила багровый румянец Давида Больфема, осмотрительную манеру, с какой он отодвинул свою толстую чашку для кофе, почесал щетинистые усы, свернул свою не очень чистую салфетку и просунул ее в кольцо раньше, чем ответить. Его первые слова сказали все, но он был политиком и свои умственные процессы привык приспосабливать к пониманию слабых интеллектов. «Вы можете их, пружины, починить», – объявил он жене, нежно улыбавшейся через стол с остатками ветчины, яиц, соленой макрели, кофе и горячего хлеба – «то есть, если это надо, чего я не заметил, а я несколько тяжелее вас. Но я не допущу больше ваших проклятых новомодных выдумок в этот дом. Было хорошо для моих родных, будет хорошо и для вас. Мы пятнадцать лет жили без хитрых абажуров на лампы, которые только портят глаза, и без ковров, в которых я путаюсь. Последние восемь или девять лет, если вы не бежали в клуб, то мчались в Нью-Йорк, и у меня было достаточно холодных ужинов и чаев по клубам. На ваши изящные платья я выкладывал деньги, которые мог бы продуктивно истратить в предвыборное время. Но я вытерпел все это потому, что я, кажется, такой хороший муж, как никто на свете. Мне нравится, если вы хорошо одеты, так как на вас все еще заглядываются, и это как-никак годиться для дела. Я никогда не лишал вас прислуги, но есть граница терпению для всякого мужа. Я против двух кроватей – и кончено».
Часть своей речи он произнес стоя, что было его обычной позой при обсуждении законов, потом вышел из комнаты своей тяжелой, деревенской походкой, которую она была бессильна изменить. Он не выделялся ни внешностью, ни манерами, был скорее настойчив, чем силен, и более хитер, чем решителен.
Она была благодарна, что он не даровал ей обычный супружеский поцелуй. Запах кофе от усов вызывал в ней дурноту, с тех пор, как она перестала его любить.
Или начала ненавидеть. И вот, лежа в постели и глубоко вздыхая, чтобы отвлечь кровь от висков, она задавала себе вопрос, любила ли она его вообще в утро жизни, когда мужчина и женщина молоды? Он был высокий, стройный юноша с красными щеками, блестящими глазами и «кружил» головы в деревне. Его внешность хвалили, и он должен был наследовать магазин отца, так как его единственный брат умер год назад, а сестры вышли замуж и уехали на Запад. Она была красива, легкомысленна и так плохо образована, как все девушки ее класса, но хорошо хозяйничала в доме отца. Уже в шестнадцать лет она отличалась умением делать пироги, а в двадцать изяществом и вкусом, с каким из ничего мастерила свои платья. Она ни в коем случае не напоминала дурочек ее возраста, класса и понятий. Хотя она и не была способна к страсти, в ней была тонкая чувствительность, свойственная юности, стремление к романтичности и холодное недружелюбие к суровой мачехе.
Давид Больфем вздыхал по ней возле главного подъезда и завоевал ее во фруктовом саду; это было весной. Все было так естественно и неизбежно, как корь и коклюш, от которых она его выходила в первый год их брака.
Она была счастлива счастьем юности, неведенья и постоянной работы. Хотя его банальные измены и вызывали ссоры, они скоро забывались, так как она была женщиной невозмутимого и философского темперамента. К тому же у них не было детей, за что она чувствовала к нему род холодной и отрицательной благодарности. Она любила детей и даже привлекала их к себе, но предпочитала, чтобы другие женщины рожали и воспитывали их.
Но все это, относительное, счастье продолжалось до пробуждения его честолюбия и до серьезных испытаний, связанных с этим.
Железная дорога превратила сонную деревню в прелестный городок, с тремя тысячами жителей.
Для миссис Больфем это обозначало более широкие интересы, возможность поехать в Нью-Йорк, но более удобное сообщение с большим городом почти разорило дело ее мужа. Его отец умер, и он наследовал магазин, который в течение поколений снабжал товарами деревню. С проведением железной дороги Больфем обленился и в хорошую погоду любил сидеть на тротуаре, а зимой перед печкой, отодвинув стул назад и ведя политические беседы с другими джентльменами, столь же обремененными делами, как и он. Он был популярен, потому что любил пошутить, имел приветливые манеры, был авторитетом в политике и обладал красноречием, хотя и безграмотным. Когда дела его пошатнулись, он только бранился, и как раз, когда он, в действительности, начал ощущать затруднения, его шурин, бывший также другом его юности, приехал из Монтаны и спас его дело от разорения, а «старое место Больфемов» – от залога.