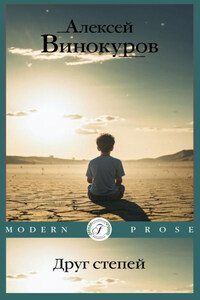Четыре тридцать. Смотрю в темное окно. Москва притворяется спящей. Мгла растекается по Садовому, вырывается из-под колес одинокой машины. Желтые горошины фонарей не прогоняют тьму. Сегодня ее ночь.
Поворачиваюсь в сторону Оружейного. На шпиле дома Нирнзее и «зиккурате» светятся огни святого Эльма. Меня предупреждают. Опасность приближается.
Ненавижу рубеж осени и зимы! Беда всегда приходит в конце ноября. Пережить бы. Обычно беру отпуск. В этом году его нет. Мне запрещают отдыхать. Входящий.
– Алло.
– Ма, не спишь?
– Как всегда.
– Я просила, Ма. Они отказали.
– Дочь, ты не виновата. Огни на шпилях горят. Скоро начнется.
– Что на этот раз?
– Не знаю. Что-то трудное. Впрочем, у меня «просто» не бывает.
Она молчит. Что скажешь? Арина понимает.
– Ладно, спасибо. Иди отдыхай, дочь. Люблю.
– Ма, чем помочь?
– Скажу, когда узнаю.
Кладу трубку. Возвращаюсь к окну. Огни на шпилях режут глаза. От них леденеет душа или что у меня есть вместо нее. Прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Перед глазами плывет призрак старого города.
Мы бежим по Оружейному мимо маленьких домов. Поливает летний дождь. Ситцевое платье промокло. Туфли несу в руке. Ты смеешься. Вода течет по лицу. Бежим через Садовое. У подъезда дождь кончился. Над Москвой – июньское солнце.
Эта ночь – между прошлым и будущим, между жизнью и смертью. Вновь продираюсь сквозь боль, кровь и слезы. Ничего не изменить. Себя не простить. Пощады просить не у кого. Сама виновата.
Я вижу твой профиль на фоне Садового кольца. Как той последней ночью. А потом ты уйдешь к Самотеке. Навсегда. Я знаю.
Ненавижу эти дни. Граница ноября и декабря – что кривой нож. Она режет жизнь на куски. Есть до и после. Календарь перевалит через второе декабря – и будет легче. Никому не говорю. Зачем? Может, эта боль сохраняет во мне человека. Что от него еще живо.
По Садовому мчится очередной призрак. Фонари мигают. Тишину нарушает звук часов на театре Образцова. Мне машет Заяц. Уже пять. Пойду варить кофе. Снова входящий.
– Да, Ма.
– Привет, Геля. Опять не спишь?
Геля… Так меня зовут свои – Сестры. И он. Так меня звал он.
– Не сплю.
– Видела огни?
– Да, Ма. Не к добру.
– А когда было иначе?
Вздыхаю. Она права. Город нас зовет, когда приходит беда.
– Ладно, Ма. Мне пора, поставлю кофе. Поеду на работу. Не сидеть же целый день сложа руки, – говорю ей.
– Удачи. Держись, девочка.
Сегодня суббота. Какого лешего меня гонит на работу?! Есть такое слово «выходной». Слово есть, а выходного сегодня нет. Вместо дня отдыха – саднящее чувство утраты и безнадежности. Такое бывает перед Призывом.
Меня зовут Ягеллона. Нет, я не потомок княжеской династии. Нет, мои родственники отношения к Польше и Литве не имеют. Хотя кто наших мужчин знает?! Они давно ушли во тьму. Своего отца и деда не помню. В семье – только женщины. Мы – Сестры – сохраняем равновесие этого мира. Раньше каждый младенец знал, кто мы такие, а ныне о нас не помнят. А мы все живем. Почти вечно. Пока нужны этой земле и городу.
У каждой один избранник. Единственный мужчина. И единственный ребенок. Девочка. Человеческий век короток. Мужья рано уходят во тьму. Остается боль и одиночество. Как-то другие справляются. И я справлюсь.
Смотрю, как поднимается пенка. Ты любишь наблюдать, как варю кофе. Говоришь, это приворотное зелье, а я – колдунья. Было дело, смешивала эликсиры. Лечебные. Не яды. Нет. Отравой никогда судьбу не портила. Я молчу. Ничего тебе не отвечаю. Ты знаешь, что угадал.
Я Целительница Двух миров. Говорят, единственная. Дочь моя Арина и внучка Полина – обе Музы. Только Аринка художникам помогает, а Полинка голос певцам ставит. Совет старейшин их ценит. Дочь сейчас с избранником своим живет. Полина пока в поиске, как нынче молодежь говорит. Бабуля моя, Ядвига Карловна, отдыхает от дел. Может, вернется. Она сильная Утешительница и, поговаривают, член Совета.
Наливаю густой кофе в большую чашку. Плотный. Ароматный. Медная турка поблескивает. Когда-то мне ее подарил Якоб. Он и приучил пить черный кофе. Без сахара. Чистый.
Подхожу к окну. Справа, во тьме, еще виднеется призрак Сухаревой башни. Вон там, на верхнем этаже, Брюс показывал мне свои телескопы. Звезды в те ночи сверкали, как бриллианты на его орденах. Помню, как гостила у него в Глинках. Злые языки утверждали, что я его любовница. А мы были друзьями. Горько вспоминать, как Совет запретил спасти его дочерей и жену. Покойся с миром, Якоб Вилимович, мой давний друг. Башня скоро растает, ее ночное время на исходе.
На шпилях Оружейного переулка свирепствуют молнии. Эта буря – только для меня. Очередной знак рубежа. В призрачной метели пробирается Букашка. Старый троллейбус потряхивает усиками, цепляется за несуществующие провода. Он храбро движется в сторону Самотечной площади. Дальше – на Сухаревской – он встретится с падающей башней и растворится в ней.
Снова разрывается телефон. Внучка. Тоже не спится.
– Привет, Лина.
Она ненавидит, когда ее называют Полей. А мне нравится. Приходится мириться.
– Привет, баба Геля. Гоняешь призраков?
Голос у девочки грустный. Если бы не музыка, Лина могла бы стать Утешительницей. Она тоньше всех Сестер чувствует собеседников.
– Скорее это они меня сегодня гоняют, – отвечаю ей.
– Ба, брось. Может…
Она запнулась. Знаю, что сейчас скажет. Молчу. Жду.
– Может, ты все-таки примешь помощь Совета? Зачем так мучиться?
Да, Совет заберет боль. Вместе с частью памяти. Ты исчезнешь навсегда. И я. Меня не будет. Не будет той весны. Как призрак Сухаревой башни, растворится моя предвоенная Москва.
– Нет. Не могу. Это предательство.
– Бабуль, все так делали. У всех все нормально – и память, и жизнь. Подумай, а?
Как объяснить, что наши души сплелись. Теперь разделять – что рубить. Больно. Кроваво. С неизвестными последствиями.
– Лина, я справлюсь. Все хорошо. Наступит третье число, и призраки успокоятся.
– Бабушка, мы переживаем.
– Я знаю, детка. Спасибо. Мне легче, когда ты со мной говоришь. Звони чаще. И приезжай. У меня кофе хороший. Бразильский.
– Тот самый?
– Ага. Свежий.
– Мы заедем.
– Кто это «мы»?
– Геля, ну что ты как маленькая.
В ее голосе слышится гордость. Может, и правда нашла своего единственного. Кто же знает. Посмотрим.
– Буду ждать. И перестань называть меня Гелей. Для людей я Илона.
Опускаю трубку. Гляжу в темное окно. Время еле тянется. Половина шестого. На работу рано.
Варю свежую порцию. Наливаю. Делаю глоток. Пенка плотная, вкусная. Обжигаюсь. Держу чашку двумя руками.
Ты не любишь кофе. Я помню. Ты не пьешь его. Ты повторяешь: «В жизни и так много горечи». Ты кладешь в черный чай сахар. Морщусь. Ты смеешься. Твоя чашка стоит на полке. Чистая. Когда мне плохо, я пью из нее. Кажется, я касаюсь твоих губ.