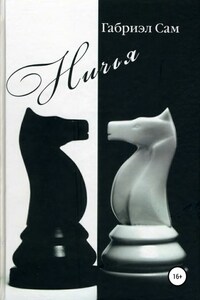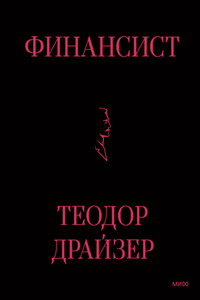Мир как воля и представление представлялся Григорию Валерьяновичу Диогенову слишком сложным и слишком заумным по сравнению с миром Платона, который так наглядно демонстрировался известной пещерой. Ну, той самой, которая зовется пещерой Платона, и про которую не слышал разве что последний дурак. Студенты Григория Валерьяновича о пещере Платона, разумеется, слышали, ибо Григорий Валерьянович был профессором философии, заведовал кафедрой на философском факультете МГУ, и строго следил, чтобы его студенты знали про все, что знает он сам. Ну, или почти что про все. Ибо про все, что знает профессор философии МГУ, знать, разумеется, невозможно. Было Григорию Валерьяновичу пятьдесят три года, и он бы уже давно был не меньше, чем членом – корреспондентом, если бы не одно странное и досадное для многих занятие – он собирал на улицах пуговицы.
Да, да, вы не ошиблись, именно этому занятию, наряду с преподаванием философии, посвящал Григорий Валерьянович все свое свободное время. То есть отдавал всего себя на работе, втолковывая студентам, что «вещь в себе» Канта – это основа всей современной физики, хотя сами физики об этом, разумеется, ни ухом, ни сном, не кумекают. Ну, или почти что все физики, поскольку среди последних встречаются весьма начитанные, в том числе и в философских науках. И если уж касался он имени Канта, то не преминул несколько лекций специально посвятить проблеме пространства и времени в философии упоминаемого философа. Которые есть ни много, ни мало, как всего лишь формы нашего восприятия мира. Что опять же мало кому из современных физиков известно и понятно. Ну, или почти что всем современным физикам, поскольку среди последних, как уже говорилось выше, встречаются всякие. Встречаются и те, что знакомы и с философией Канта, и с его объяснением того, что есть для нас пространство и время.
Так вещал с кафедры Григорий Валерьянович Диогенов на своем родном факультете, и с этой стороны у него все было нормально. Так что хоть сейчас бери, и давай ему члена – корреспондента, тем более, что он давно уже это звание заслужил. В кулуарах университета так и говорили между собой, что такой знаток Канта и Шопенгауэра, как Диогенов, давно заслужил эту награду. Но в дело как раз некстати вмешивался один очень досадный фактор – все знали, что Григорий Валерьянович собирает на улицах пуговицы. И всегда при этом крутили пальцем в районе виска. И шептались о том, что это не иначе, как пунктик, и что не будь этого пунктика, Григорий Валерьянович уже давно бы получил члена – корреспондента. А с таким пунктиком у нас на Руси получить ничего невозможно, разве что прозвище блаженного, или полного идиота. Что, по мнению многих, одно и то же. Ну да в университете работали интеллигентные люди, и вслух, а тем более в глаза виновнику торжества об этом не говорили. И даже то, что носил он фамилию Диогенов, тоже никого не смущало. Хоть и было в ней нечто двусмысленное. Тем более для философа, и тем более такого известного, как Григорий Валерьянович Диогенов. Ну и черт с ним, с Диогеновым, ибо какие только фамилии не встретишь у нас на Руси!
«Дзинь! Дзинь!» – останавливался трамвай за окном, и уходил дальше на повороте.
«Дзинь! Дзинь!» – останавливался трамвай за окном, и уходил дальше по Беговой.
На самом деле все это Григорию Валерьяновичу только казалось, все это было лишь ложной памятью, поскольку трамвай на Беговой уже давно не ходил. Уже более десяти лет, как убрали отсюда двадцать третий маршрут, а потом и рельсы трамвайные отсюда убрали. Выходили жители окрестных домов протестовать против этого, писали на своих плакатах, что двадцать третий трамвай ходил здесь больше века, и был вообще вторым трамваем в России, не считая того, что первым пошел в Киеве. Ну да разве тронут кого в Москве протесты жителей окрестных домов? Москва ведь, как известно, ни слезам, ни протестам не верит. Убрали с Беговой двадцать третий трамвай, а потом и рельсы от трамвая отсюда убрали, но память о нем у жителей оставалась еще надолго. Вот и Григорий Валерьянович, взрослый, казалось бы, и образованный человек, а до сих пор не хотел верить, что осиротели они все, и нет больше внизу родного трамвая. Ну да у Григория Валерьяновича, как мы говорили, были в жизни и другие крайности…
Григорий Валерьянович жил на Беговой в сталинском доме в стиле ампир с балкончиками и эркерами, а также с мраморными каминами в комнатах, которые ему безумно нравились. Нравились потому, что… Ну, одним словом, нравились и все тут… Квартира его на четвертом этаже выходила окнами на ипподром, так что четверка летящих в небе коней над входом в этот храм скачек находилась как раз на уровне глаз Григория Валерьяновича.
«Лучше бы, – думал Григорий Валерьянович, – если бы летела в небе шестерка крылатых коней, ну да ведь и над Большим театром все та же квадрига летит. Квадрига, управляемая божественным Аполлоном». Был Григорий Валерьянович большим знатоком и почитателем далекой античности, и понимал, что с божественным Аполлоном бороться бессмысленно. Раз у Аполлона квадрига, то пусть будет квадрига и над ипподромом. Хоть это и явный знак, причем знак именно философский, причем специально для него, и невидимый непосвященным.
Что это за знак, и почему именно для него, Григорий Валерьянович не хотел объяснять, да и некому было объяснять ему. Разве что жене, Элеоноре Максимовне, но ей уже давно перестал он объяснять что-либо. Скорее она ему объясняла особенности поэтики Достоевского. Была Элеонора Максимовна специалистом по Достоевскому, и работала в заведении, изучающем жизнь и творчество русских писателей. А также писателей мировых, ну да Достоевский как раз и был мировым писателей. Защитила она диссертацию по Федору Михайловичу, но, как ни пыталась втолковать мужу, что поэтика есть и в творчестве прозаиков, тот этого так до конца понять и не мог.
«Поэтика в поэте – это я понимаю, – возражал он ей во время горячих споров, в первые годы их супружества. – Поэтика в Пушкине, или в Лермонтове, – это я понимаю, поскольку они поэты, но откуда поэтика в Достоевском, ведь он не поэт, а прозаик? Да и мрачен он очень, это скорее философ зла, вроде Шопенгауэра, или Ницше, но никак недобра. Нет в нем никакой поэтики, разве что поэтика последних и мрачных глубин!»
«Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!» – пыталась цитировать ему Элеонора Максимовна. Но не понимал ее Григорий Валерьянович Диогенов, стоял на своем, утверждая, что поэтика есть у поэтов, а у прозаиков есть нечто иное, особенно у таких мрачных, как Достоевский. Впрочем, что с него взять? Философ, он философ и есть!