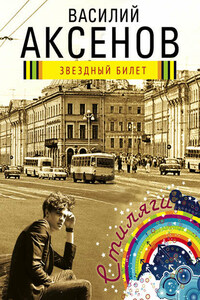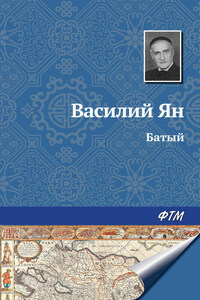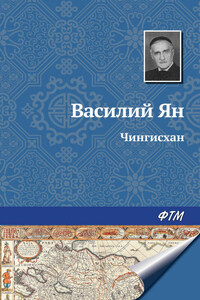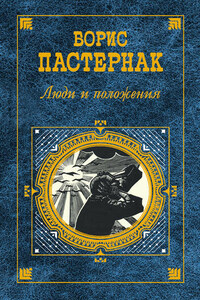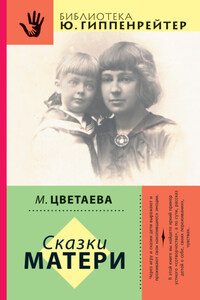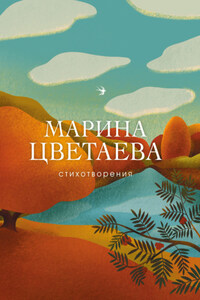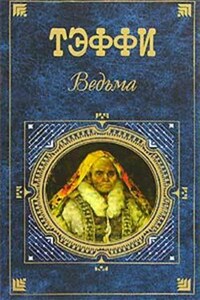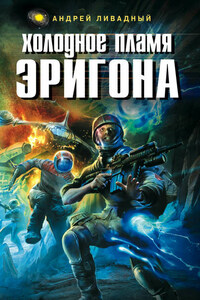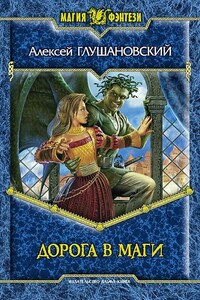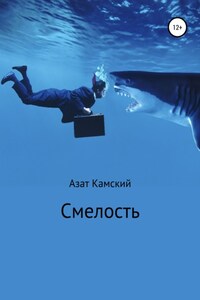Марина Цветаева
Мой Пушкин
Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – «Jane Eyre» – Тайна красной комнаты.
В красной комнате был тайный шкаф.
Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».
Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.
Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом животе поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу – в слове живот для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.
О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.
– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.
Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернью.
Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.
С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, – я поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.
Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой – «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале – «Татары» – татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и – в спальне матери – «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносыми голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.
* * *
Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр – черные[1].)
Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили.
(Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта – не убили?)
Но и до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминания есть свое до-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая всегда оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды, – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и отвсегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.
Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».
Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», – чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».
Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая[2].
Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала – к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.