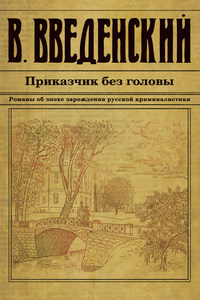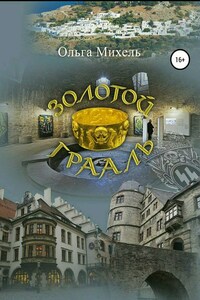30 мая 1871 года, воскресенье
Дверь в кабинет приоткрылась:
– Можно?
Яблочков, продолжая скрипеть пером, кивнул.
– Господин Крутилин? – уточнил вошедший.
Арсений Иванович мотнул головой:
– Нет его и сегодня не будет. Неприсутственный день.
– Но табличка…
– Я его замещаю. Чиновник для поручений Яблочков, – отрекомендовался Арсений Иванович, отложил перо и, взглянув на посетителя, с ходу составил словесный портрет: глаза синие, нос прямой, продолговатое лицо усыпано веснушками, редкие седые волосы зачесаны, дабы замаскировать проплешины. Возраст – чуть меньше сорока, одет в черный фрак тонкого сукна с обтянутыми тканью по последней моде пуговицами, на ногах – лакированные ботинки с серым суконным верхом, в левой руке – массивная трость, в правой – цилиндр, атласный галстук заколот булавкой с бриллиантом. Кто же перед ним? Аристократ? Если судить по внешности, то несомненно. Но аристократ дверь кабинета начальника сыскной полиции распахнул бы ногой. И разговаривал бы через губу. А этот заискивает… Значит, купец. Причем не из наших, неправославный. Наши по старинке предпочитают носить бороды и армяки. Немец, поляк?
Посетитель, будто услышав размышления Арсения Ивановича, подал визитную карточку.
«Тейтельбаум Григорий Михайлович, купец первой гильдии, собственные лавки готового платья в Гостином дворе и Пассаже», – прочел Яблочков и похвалил себя: «И что купец угадал, и что пруссак!»
Начинающий сыщик постоянно упражнялся в умении с ходу определять сословную принадлежность, род занятий и национальность, и сие умение все чаще ему пригождалось.
– Крутилина точно не будет? – еще раз уточнил посетитель, пристраивая летнее светло-кофейного цвета пальто на крючок вешалки.
– Точно. К семье укатил, на дачу.
– Мы тоже на днях переехали. Кто мог подумать, что вернутся холода? Вчера такая жара стояла, а сегодня – четыре градуса по Реомюру[1]! Брр! Просто неслыханно. Потому Беллочка и отправила меня за шубами. Цельсия. – Белочка? – удивился Яблочков.
– Жена.
Арсений Иванович усмехнулся. Какими только прозвищами не называют друг друга супруги: заинька, рыбонька. А покойный генерал-майор Ефимов-Ольский и вовсе откликался на верблюжонка.
Тейтельбаум тем временем продолжал объяснять причину своего появления в сыскной:
– …вхожу, а вещи по полу раскиданы. Обокрали меня, обокрали!
Яблочков, услышав про кражу, встрепенулся:
– Простите, отвлекся. У вас дачу обокрали?
Если дачу, то посетитель ехал в сыскную напрасно, ему следует обратиться в уездную полицию[2].
– Нет, городскую квартиру.
– Понятно, – вздохнул Арсений Иванович. – Наружную полицию вызвали?
– Нет. Сразу к вам. То бишь к Крутилину.
– Сперва надобно в участок. А вот ежели не справятся…
– Зная нашего пристава, уверен, что не справятся. Лентяй и тупица, в собственном глазу бревна не увидит. А тем временем дети будут мерзнуть. И Беллочка тоже. Шубы нужны срочно. Конечно, я мог бы купить новые. Но тогда Беллочка догадается, что нас ограбили. А у нее больное сердце.
– Сочувствую. Но мы – не волшебники, – Яблочков широко развел руками для убедительности. – Потребуется время. Неделя, а то и больше. Очень надеюсь, что жара к тому времени вернется. И, значит, шубы вам будут не нужны.
– Как так неделя? Говорят, Иван Дмитриевич возвращает вещи в день обращения.
– Кто говорит?
– Один мой клиент.
– Такое случается. Но редко. Очень редко. Вашему клиенту крупно повезло. Думаю, что вор, обокравший его квартиру, был уже изловлен.
– И что прикажете делать?
– Ехать в участок.
Тейтельбаум встал, подошел к вешалке, снял пальто. Но сразу повесил обратно.
– Простите, я ведь главное не сказал, – хлопнул он себя ладонью по голове. – Я готов заплатить за хлопоты. Назовите цену.
Яблочков призадумался: Тейтельбаум сообщил, что переехал на дачу недавно, следовательно, ограбление произошло только что, а значит, имелся шанс, и неплохой, отыскать свидетелей. Наверняка дворники или соседи видели, как преступники выносили вещи. Кто-то из них мог даже их внешность запомнить. Если фотопортреты найдутся в картотеке – дело, считай, раскрыто. Сколько же запросить денег? Пять, десять?
– Пятнадцать, – выдохнул Арсений Иванович.
– Тысяч? – округлились глаза у Тейтельбаума.
– Что вы? – улыбнулся Яблочков. – Рублей, пятнадцать рублей.
– Я заплачу пятьдесят, если шубы вернете сегодня.
– Хорошо, сделаю, что смогу. Но обещать не могу. Итак, приступим. Когда вы переехали?
– Позавчера. Собирались еще в середине мая, но все время стояли холода, потеплело только во вторник. И мы с Беллочкой решили, что пора.
– Вчера в квартиру не заезжали?
– В субботу? Шутить изволите?
– Простите, не понял, – признался Яблочков.
– Священный для иудеев день.
– Так вы еврей?
– Да, – с вызовом ответил Тейтельбаум. – Подданный Его Императорского Величества. А у вас что – предубеждение к нам?
– Нет, – покачал головой Яблочков.
Как же он так опростоволосился? Решил, что пруссак, а оказалось – еврей.
– Просто вы не похожи. Я думал, евреи все чернявые, с бородой и в шапочке…
– Чернявые отнюдь не все. А от бороды с кипой пришлось отказаться, иначе покупатели обходили бы мою лавку стороной. Евреев в столице пока не жалуют.
– Что ж! – привстал Арсений Иванович. – Поехали смотреть квартиру.
Тейтельбаумы проживали в Большой Коломне, в доходном доме на Офицерской[3], двадцать девять, рядом с Литовским замком[4].
– Почему здесь? – удивился Яблочков. – У вас ведь лавки на Невском.
– Потому что здесь поселились мои единоверцы, первые переехавшие в Петербург. Видите ли, наш народ уже две тысячи лет рассеян по свету. И везде к нам относятся неважно. Поджоги, убийства, погромы – обычное дело что в Европе, что в Османской империи. Потому мы и держимся вместе, кагалом. Чтобы дать отпор.
– Тпру, – скомандовал извозчик.
Григорий Михайлович велел ему дожидаться и вместе с Яблочковым направился к парадному подъезду. Дверь перед ними распахнул швейцар в расшитой золотом ливрее: рослый, чуть ли не двенадцати вершков[5], вихрастый, волос каштановый, возраст – чуть больше двадцати, по всем приметам – крестьянский сын на заработках.
– Аще что позабыли? – спросил он у купца с подобострастной улыбочкой.
Но в серых, по-ястребиному посаженных глазах Яблочков заметил испуг. «Причастен», – решил он и вытащил удостоверение:
– Сыскная полиция.
– По-полиция, – пробормотал, запинаясь, швейцар. – А чаво случилось?
– Неужели сам не знаешь?
– Не знаю, ей-богу, не знаю. У нас все чинно-благородно. С самого утра полный абажур, тока Афанасий Евгеньевич с Таисией Павловной шибко полаялись, коды в церкву пошли. А боле ничаво.
– Точно абажур? – с насмешкой уточнил Яблочков.
У швейцара, несмотря на четыре Реомюра, на лбу выступил пот: