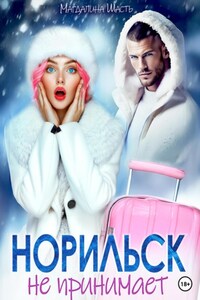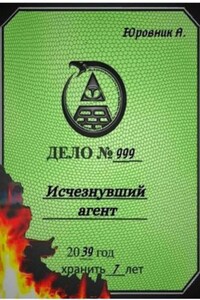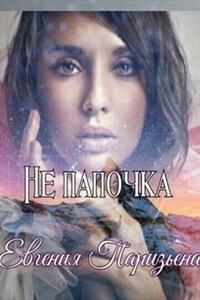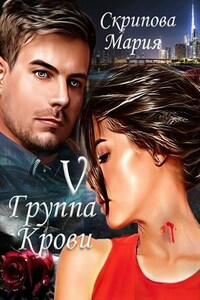Мы сидим за одним столом всей семьёй, попивая ароматный чаёк с горячими пирожками. Моя бабушка – додельница, напекла их сегодня поутру в настоящей русской печи. С картошкой и печёнкой – мои любимые… Неспешный, тихий разговор, изредка прерываемой бархатистым маминым хихиканьем и незлобными дедушкиными прибаутками, приближает время послеобеденной неги. Сонная муха, нагло кружащая над щедрым столом, неохотно садится на краешек спинки бабушкиного стула. Но, брезгливо гонимая скучающим по спрятанной в глубоких недрах холодильника бутылке самогона отцом, неспешно взмывает вверх с недовольным жужжанием.
– Спасибо, было очень вкусно, – пытается бодриться трезвый и оттого грустный папа, дёргано выпрыгивая из-за стола, – Я, это, за сигаретами сбегаю, – виновато оглядываясь на мать, добавляет он.
– Курит по две пачки в день, весь табаком провонял, – ворчит мама, хмуря брови, пока раздражающий её супруг, похожий на нашкодившего кота с прижатыми ушами, торопливо выбегает из комнаты, – Еще и водку купит, вот увидите…
– А и куплю, – выкрикивает отец визгливым баритоном, невольно застревая в дверном проёме и раздвигая пёстрые занавески широкими плечами. Одна из шторок цепляется за гвоздь в косяке.
– Миша, мухи!!! – кричит на папу неугомонная мама и тот неаккуратно одёргивает злополучную шторку, попутно показывая недовольной супружнице язык.
– Ой, ну что за чудак? – хитро щурится бабушка, доедая пирожок с курагой.
– Что Вы, мама, какой чудак? Нажрётся опять этот чудак, – начинает, было, мать свой ежедневный трындеж, но закончивший трапезу дедушка, перебивает её.
– Ты, Маша, не кричи, ну и выпьет. И все мы выпьем. За ужином сам бог велел, по чуть-чуть, для сна.
– Я, папа, не буду. У меня голова от этой дряни болит, – не унимается мама, – Да и Наташе не наливайте. Что это за манера: детей спаивать? И так вся в отца: ни одной рюмки не пропустит.
–Ты… что это-о-о? – от возмущения слова на кончике моего языка слипаются в одно тягучее “о”, и я чувствую, как щёки багровеют. Пообедали, блин. Начинается.
– Ничего-ничего, – пытается смягчить ситуацию бабушка, нежно похлопывая меня по коленке шершавой тёплой ладонью, – Ты иди, Вась, отдохни…
– Ну что ты, Маша? Зачем его заводишь? – громким шёпотом шепчет бабушка, когда дедушка, наконец, удаляется, – Ты же знаешь, как он всё близко к сердцу.
– Вот. Всё из-за тебя! – шипит мама, бросая на меня возмущенный, полный осуждения взгляд, – Всё ты!
– Из-за меня? – я ошарашенно разглядываю злобные межбровные морщинки на мамином лице и чувствую, что закипаю. По её версии я всегда и во всём виновата. Потому что великовозрастная нахлебница. А я студентка вообще-то, а не нахлебница! Студентка престижного ВУЗа!
– У всех дети, как дети, а эта…
– Я? Я? Да причём здесь я?! Бабушка! – слезы обиды, смешанные с невысказанным гневом, уже невыносимо щиплют глаза, но добрая бабушкина ладонь крепко сжимает мою нервно дрожащую коленку. И я в который раз малодушно затыкаюсь, проглатывая очередную порцию негатива. Несправедливость – вся моя маленькая жизнь. Ничего. Переварю. Соляной кислоты достаточно. А вы смотрите желчью не подавитесь, господа родители!
– Спасибо за всё, – театрально подвожу итог я, нарочито важно поднимаясь из-за стола.
– А посуду за тобой кто мыть будет? Вечно кто-то должен им, – обед окончательно испорчен, а я понимаю, что уснуть не получится.
– Маша, да я помою, – тихо произносит бабушка, но её истеричная дочка, оседлавшая любимого конька, делает вид, что не слышит. Мою маму хлебом не корми – дай повоспитывать.
– Посуду помой! – некрасиво морщась, орёт она на меня, и я, не сдержавшись, со звоном швыряю чайную ложку в кружку, – Ты посмотри, какая!
Минут десять спустя мы дружно моем с бабушкой посуду, и я возмущённо рассуждаю о жизни, плюясь слюной во все стороны.
– Неужели она не понимает, что люди не хотят делать ничего, когда из-под палки? – ропщу я на родительский беспредел неистово, распаляя себя всё больше и больше, – Да я перебить хочу эту посуду, а не мыть.
– Ну, она обижается на тебя, – робко пытается вступиться за мать бабушка, устало опуская глаза.
– Да какого чёрта она обижается?! – даю волю эмоциям я, уже открыто психуя и почти визжа.
– Ну ты же пьяная вчера пришла и поздно, – рубит бабушка с плеча правду-матку, но меня этим уже не испугать.
– Во-первых, я всегда гуляла до двух, как мы с тобой и договорились. Так?
– Ну она против, что так поздно…
– Здесь ты хозяйка, и я договариваюсь с тобой! Вчера был день рождения Аллки и ты прекрасно об этом знала. Я не понимаю, зачем устраивать чёртов спектакль?
– На той неделе ты тоже приходила пьяная, тебя потом рвало полночи. Тоже день рождения? – неожиданно бабушка язвит.
– Да, представь себе. У Ромки. И мне стало плохо, так бывает. Мне 22 года, неужели я не могу посидеть с друзьями?
– А разве Ромка – твой друг? – видимо сегодня я тоже нажрусь, потому что родственники перешли в наступление. Я с чувством выдыхаю.
– Я весь год училась! Весь год, понимаешь? ВЕСЬ год, – чувствуя, что сейчас разревусь от жалости к себе, я шумно втягиваю воздух носом, – У меня хорошие оценки, но этого никто не замечает! Я умная и ответственная, но кому это нужно? Все видят во мне лишь урода. Мне целый год не с кем поговорить, потому что ОНА выгоняет моих подруг, чтобы они не звали меня гулять, потому что темно. Мне нельзя гулять по темноте! Ты представляешь? Я из универа по темноте еду, а гулять нельзя! У меня нет друзей. Нет парня. Нет никого! А ОНИ еще язвят, что я домоседка! А я человек! ЧЕЛОВЕК, понимаешь ты это? Я тоже хочу танцевать в клубе до утра, как мои однокурсницы, потому что молодая!!!
– До утра не надо, Наташа…
– А-а-а-а, – жалея, что ненароком выдала свои желания, я сажусь прямо на пол и вою в голос, никого не стесняясь.
– Ну вы просто нервные, какие-то обе нервные, – причитает бабушка, бросая посуду и хватая меня за плечи, – Давай налью валерьяночки, вставай не кричи, дедушка увидит, ему плохо станет…
– Дедушке плохо, бабушке плохо, маме с папой плохо, а мне, блять, хорошо, – вою я, сопротивляясь и отодвигая бабушку, – да чтоб я сдохла, побыстрее сдохла, как же я устала! Не могу!
– Ой, да что ж ты говоришь, дурная? Материшься. Что ж ты говоришь, грех-то какой, – чувствуя, что довела бедную старушку до дурноты, я перестаю с ней бороться и обнимаю.
– Всё, я больше не буду. Больше не буду. Я сильная. Всё будет хорошо. Извини меня, пожалуйста, – как обычно я вытираю нечаянные слёзы, чувствуя, что в груди оседает зловещее чувство вины и жалости к старенькой бабушке и даже немножко к матери, которая за меня беспокоится и реально не понимает, что на танцполе весело, – Я же всегда тебе помогаю и полы мою и посуду, правда? Хочешь за коровой сегодня схожу?