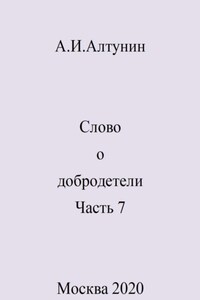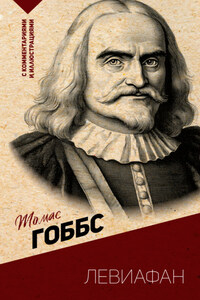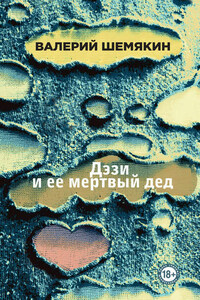Введение
Пережившие культ молодости
В автобиографической книге «Вчерашний мир» (1942) Стефан Цвейг рассказывает, что в конце XIX века в Вене – в сердце Австро-Венгерской империи, где властвовал 70-летний правитель в окружении дряхлеющих министров, – молодость сама по себе была подозрительна в глазах общественного мнения. Горе тому, кто был молод или сохранял моложавый вид: такой человек не мог найти себе места на службе, а назначение 37-летнего Густава Малера на пост директора Венской императорской оперы стало лишь нашумевшим исключением. Молодость становилась препятствием на пути любой карьеры. Тем, кто стремился к карьерным высотам, надлежало выглядеть старше своих лет, начинать стареть уже с юности: ежедневно бриться, чтобы борода скорее росла, водружать на нос очки в золотой оправе, щеголять накрахмаленными воротничками, носить тесную неудобную одежду, неизменно появляться в длинном черном сюртуке и по возможности выставлять напоказ начинающее расти брюшко – залог основательности. С двадцати лет одеваться стариком было непременным условием успеха. Следовало подвергнуть каре подрастающие поколения, уже и так наказанные унизительной механической системой воспитания: с корнем вырвать желание собственного первого опыта, мысль о мальчишеском непослушании. Это был триумф солидности, когда предполагалось, что только человек в почтенном возрасте может называться приличным.
Какой контраст с нашей эпохой, когда всякий взрослый безнадежно цепляется за внешние признаки молодости: одевается как попало, носит джинсы и отпускает длинные волосы; когда матери одеваются так же, как и дочери, чтобы стереть малейшее от них отличие. Когда-то люди из поколения в поколение жили той же жизнью, что и их предки. В наше время предки хотят жить той же жизнью, что и их потомки. 40-летние подростки – «кидалты»[1], 50- и 60-летние – тинейджеры, 70-летние и старше – крепкие бодрячки: среди них и приверженцы скандинавской ходьбы, с рюкзаками за спиной, лыжными палками в руках и в защитных шлемах на голове отправляющиеся в путь по улицам или городским паркам (так, будто они штурмуют Эверест или пустыню Калахари), и бабульки на самокатах, и дедульки на роликах или гироскутерах. Они опьянены возможностью помолодеть. Отсутствие связи между поколениями и комично, и симптоматично: глядя на юных модников, щеголяющих в элегантных обтягивающих костюмах, и на седовласых юнцов, разгуливающих в шортах, трудно понять, где старшее, а где младшее поколение.
Одновременно с этим происходит и переворачивание ценностей: для Платона уровень знания должен был соответствовать возрастной шкале, и только после 50 лет индивид был способен созерцать Благо. Во главе его идеального Государства должна была стоять своего рода «умеренная геронтократия» (по выражению Мишеля Филибера[2]) – исключительно люди зрелого возраста, способные предотвращать анархию страстей и направлять coграждан к высшей стадии развития человеческого общества. Задачей власти было осуществлять духовное руководство. Именно Платон, задолго до появления «Бенджамина Баттона» Скотта Фицджеральда, воображает в диалоге «Политик», как некогда умершие старики вновь рождались из земли, чтобы прожить свою жизнь наоборот, то есть возвращались в состояние новорожденного младенца. Таким образом, Платон рассматривал детство как конец существования, возвращение к исходной точке после долгого путешествия. Начало было концом, а конец – началом.
У нас сложился другой взгляд на этот предмет: целое столетие со времен Первой мировой войны – массовой бойни, унесшей вследствие приказов безответственных полководцев жизни почти всех тех, кто по возрасту подлежал призыву, – зрелость человека воспринималась как поражение; как если бы «повзрослеть» значило «чуть-чуть умереть»[3]. Война отвратительна тем, что она нарушает очередность событий и заставляет сыновей умирать прежде отцов. Именно так молодое поколение становится – возьмем сюрреализм, унаследовавший идеи Артюра Рембо, и студенческие волнения в мае 1968 года, вызванные теми же идеями, – носителем всех надежд, а то и горнилом человеческого гения. «Никогда не доверяй тому, кто старше тридцати», – скажет в 1960-е годы американский антивоенный активист Джерри Рубин, прежде чем превратиться после сорока в преуспевающего бизнесмена. Из этого нарушения привычного хода вещей возникает новая жизненная установка: культ молодости, свойственный обществу в фазе его старения; идеология взрослого человека, который хочет получить в свое распоряжение все преимущества – и безответственность юности, и самостоятельность зрелости. Культ молодости рушится по мере становления: его адепты с каждым днем понемногу утрачивают право на притязания, потому что в свою очередь стареют. Из некой призрачной привилегии они делают себе пожизненный титул. Низвергатели устоев одной эпохи становятся старомодными в другой. Сегодняшний авангардист является кандидатом в завтрашние ретрограды, юный хулиган превращает свое хулиганство в капитал и живет на его проценты. И даже беби-бумеры, эти фанатичные приверженцы культа молодости, в конце концов становятся 70- и 80-летними стариками. Для общества, где царит культ молодости, характерно то, что ему далеко до триумфа гедонизма: его члены с раннего детства одержимы страхом старения и борются с ним с помощью превентивного и чрезмерного использования медицинских средств. Но время идет, и суррогат вечной молодости выглядит все более и более фальшивым.
До 30 лет человек не имеет возраста – впереди у него вечность. Дни рождения для него – всего лишь забавная формальность, безобидные цифры. Но потом счет идет на десятки, проходит череда юбилеев: 30, 40, 50 лет. Стареть – это прежде всего вот что: твоя жизнь становится частью календаря, ты – современник минувших эпох. С возрастом время принимает человеческие черты, но вместе с тем становится и более трагичным. Грустно осознавать, что ты оказался таким же, как все, что и ты не избежал общей участи. Я достиг такого-то возраста, но я вовсе не обязан ему подчиняться: я наблюдаю явное несоответствие между тем, что значится в документах, и моими внутренними ощущениями. Когда это несоответствие становится массовым, как это происходит сегодня – в 2018 году 69-летний голландец подал в суд на государство с требованием внести исправления в его персональные данные, поскольку в душе он чувствует себя 49-летним и страдает от дискриминации и на работе, и в личной жизни, – это значит, что мы становимся свидетелями изменения общественного сознания. Изменения как к лучшему, так и к худшему. Мы заявляем о своем праве прожить жизнь несколько раз, по своему усмотрению. Мы больше не выглядим сообразно возрасту, поскольку возраст уже не налагает на нас обязательств: это всего лишь одна из переменных величин в ряду прочих. Мы больше не хотим быть связанными по рукам и ногам датой нашего рождения, нашим полом, цветом нашей кожи, социальным статусом: мужчины хотят быть женщинами и наоборот или же ни теми и ни другими, белокожие хотят выглядеть как чернокожие, старики – как юнцы, подростки подделывают документы, чтобы иметь право употреблять алкоголь или пройти на дискотеку, статус человека становится зыбким во всех проявлениях, – мы вступаем в эпоху текучести личностей и поколений. Мы не хотим поддаваться гипнозу больших цифр, мы требуем права самостоятельно передвигать курсор, куда пожелаем. Только-только прижившись в племени 40- или 60-летних, мы принимаемся свергать прежние порядки. Возраст – условность, к которой каждый приноравливается более или менее охотно. Он предписывает индивидам определенную роль, загоняет их в рамки, которые ломаются благодаря развитию науки и увеличению продолжительности жизни. Сегодня многие стремятся вырваться из оков возраста и воспользоваться отсрочкой между зрелостью и старостью, чтобы изобрести новое искусство жизни. Мы можем назвать эту отсрочку «бабьим летом»; поколение беби-бумеров является в этом отношении первопроходцем: именно оно своим примером прокладывает путь для следующих поколений. Беби-бумеры изобрели вечную молодость, и теперь они думают, что изобретут вечную старость. Мы будем сохранять бодрость, пока наш психологический возраст не совпадает с биологическим и социальным возрастом. И пусть мы остаемся во власти природы – мы меньше, чем когда-либо, руководствуемся ее законами. Мы идем вперед наперекор всем ее правилам, ибо разрушая нас, природа в своем царственном безразличии лишь создает нас вновь.