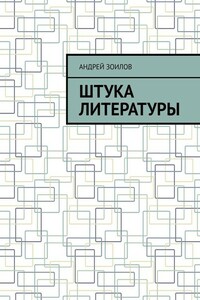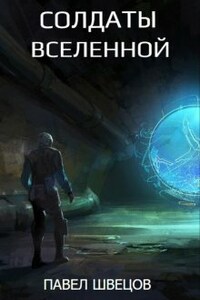Осенью 1946 года листья – в третий раз после знаменитой речи Черчилля о грядущем листопаде – упали на землю с немецких деревьев. Осень выдалась унылая, дождливая и холодная, в Руре – голод и продовольственный кризис, в остальных частях бывшего Третьего рейха – просто голод. Всю осень в западные зоны прибывали поезда с беженцами с востока. Голодные оборванцы, которых тут никто не ждал, толпились в темных вонючих бункерах вокзала или в гигантских укрытиях без окон, напоминавших квадратные газгольдеры или установленные в разрушенных немецких городах в память о поражении в войне памятники-исполины. Несмотря на молчание и пассивное подчинение, эти в высшей степени незаметные люди наложили на немецкую осень отпечаток неизбывной горечи. Заметными же они стали не только потому, что приезжали и приезжали, беспрестанно и постоянно, а еще и потому, в каких количествах они прибывали. Они стали заметны не вопреки своему молчанию, а благодаря ему, ибо ничто произнесенное вслух не может казаться настолько угрожающим, как непроизнесенное. Их присутствие вызывало ненависть и интерес: ненависть – потому что с собой они привозили только голод и жажду, интерес – потому что их приезд давал местным основания чувствовать ставшие уже привычными безверие и безысходность.
Кстати, кто из переживших эту немецкую осень сказал бы, что это недоверие не было необоснованным, а немощь – беспричинной? Вполне можно допустить, что неиссякаемый поток беженцев, заполонивших немецкие равнины от Рейнско-Рурского региона и Эльбы до синеющих гор вокруг Мюнхена, стал важнейшим внутриполитическим событием в стране, где другой политической жизни не осталось вовсе. Еще одним внутриполитическим событием примерно той же значимости оказался дождь, затопивший Рурский регион до такой степени, что во всех обитаемых подвалах вода стояла выше колена.
(Ты просыпаешься – если, конечно, тебе вообще удалось поспать – от холода в кровати без одеяла, погружаешь ноги по щиколотку в холодную воду, подходишь к камину и пытаешься зажечь отсыревшие ветки с уничтоженного взрывом бомбы дерева. Где-то в воде у тебя за спиной по-взрослому, туберкулезно кашляет ребенок. Если все же удается разжечь огонь в печке, которую ты, рискуя жизнью, вынес из разрушенного дома и чей владелец уже пару лет лежит погребенным где-то под развалинами, то вскоре подвал заполняется дымом, и те, кто и так кашляет, начинают кашлять еще сильнее. На камине стоит чан с водой – уж чего-чего, а воды у тебя предостаточно – ты наклоняешься, и на залитом полу на ощупь ищешь пару-тройку картофелин. Потом, стоя по щиколотку в холодной воде, ты кладешь эти картофелины в чан с такой же водой и ждешь, пока они станут съедобными, хотя картофель был перемороженным уже тогда, когда тебе всеми правдами и неправдами удалось его раздобыть.)
Врач, рассказывающий иностранным журналистам о том, как выглядит питание в этих семьях, говорит, что варево в котлах просто не поддается описанию. На самом деле – поддается, как и весь их способ существования. Чудом добытое мясо неизвестного происхождения, бог знает где найденные грязные овощи – все это поддается описанию, да, все это ужасно неаппетитно, но вполне поддается описанию. Точно так же можно возразить на заявления о том, что не поддаются описанию и страдания, испытываемые детьми в этих подвальных бассейнах. Было бы желание, и тогда эти страдания можно описать, например, так: тот, кто стоит в воде у камина, наконец оставляет его на произвол судьбы, идет к кровати, где лежат трое кашляющих детей, и приказывает им немедленно собираться в школу. В подвале дым, холод и голод, дети спали полностью одетыми, а теперь встают в воду, едва не заливающуюся им в ботинки, поднимаются по темной лестнице – там тоже спят люди – и выходят в холодную и мокрую немецкую осень. До начала уроков еще два часа, учителя рассказывают иностранным гостям, как родители жестоко выгоняют детей на улицу. Но с ними можно поспорить о том, что в данном случае считать жестокостью, а что – милосердием. Один известный своими афоризмами нацист говорил, что милосердие палача состоит в том, чтобы нанести быстрый и точный удар. Милосердие этих родителей в том, что они выгоняют детей из отсыревшего дома под дождь, из сырости подвала – в серую хмарь за окном.
Разумеется, в школу дети не идут: во-первых, потому, что школа закрыта, а во-вторых, потому, что «ходить в школу» – это просто эвфемизм того рода, что нищета создает в избытке для тех, кто вынужден говорить на ее языке. Они идут воровать или пытаться найти что-то съедобное менее предосудительным образом. Эту «не поддающуюся описанию» утреннюю прогулку троих детей, которая заканчивается, когда и правда начинаются уроки, вполне можно описать, а потом можно описать и несколько других «не поддающихся описанию» моментов школьной жизни: заколоченные грифельными досками окна в попытках защититься от холода, хотя защищают они в основном от дневного света, поэтому приходится все время держать включенной лампу, такую слабую, что детям едва удается разобрать текст, который надо переписать, или вид на школьный двор, с трех сторон окруженный трехметровыми развалинами, какие встречаются по всей Европе, – они служат детям еще и туалетом.