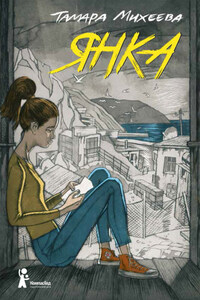«Не поставил точку пули в своем конце…»
Не поставил точку пули в своем конце,
Не смог иль пуля не прошла…
Не Маяковский я!
И синь очей во мгле я не утратил,
Ведь нет очей, я слеп…
И не Есенин я!
Я – камень, мягкая земля,
Я – тень, невидима во мгле,
Я умер, я давно в себе погиб
И похоронен где-то там…
Уже зарос, сорняк меня прошиб.
Я умер.
От боли захлебнулся в грязь.
Опутан венами кривыми
Я, лежа на асфальте, подыхал…
Быть может, кто-то перепутал с урной
Не помню, слишком крепко спал.
Разбросан листьями и пылью
Я был один, и не было меня.
Я умер.
Словно серый человек в коробке
На мне лишь не было костюма.
Бесплотными губами сжался нерв
Глаза прикрыл в истоме безысходной
Такой же одинокий, мрачный
Она была… Она или душа… ушла?
2002 г.
В этот день восемь лет назад умер мой отец.
С утра ничего не происходило, обычная повседневщина.
Только иногда, в те мгновения, когда память просыпалась,
в груди вдруг начинало что-то покалывать.
Странно, я всегда помнил дату его смерти, но почему-то с наступлением сегодняшнего утра мне даже не сразу пришло это в голову.
В другие дни я часто вспоминаю отца
Просто так, без причины.
А тут еду на работу, вокруг люди и все атрибуты жизни.
И вдруг кто-то говорит мне шепотом:
«А ведь у тебя сегодня умер отец».
Потом я благополучно позабыл об этом,
вспоминая временами на протяжении всего своего живого дня.
Наконец сегодняшний день тоже умер.
В сумеречных муках родился вечер.
Я забился в очередную публичную нору,
где наливают алкоголь и жарят мясо.
Вокруг множество незнакомых людей,
я жду друзей и вспоминаю отца.
Через какое-то время, когда друзья придут,
я снова о нем позабуду,
как всегда,
как нужно.
Только изредка в моей груди что-то происходит не так.
2008 г.
Так же будут работать пивные ларьки,
Звучать радио и вертеться планеты,
Лишь никто не пожмет больше этой руки
Что дрожала когда-то, дымя сигаретой.
2008 г.
«Через рот тошнотою в похмельный синдром…»
Через рот тошнотою в похмельный синдром
Мои стихи, словно новорожденные дети,
Рвутся наружу, в абсурд, возвещая о том,
Что и так слишком много абортов на свете.
Я топлю их без устали – собачьих щенят
В алкогольно-сливных бочкАх, унитазах
Неокрепшие когти ломая, скулят
Не рожденные дети – мысли во фразах.
2008 г.
Жизнь?
Это смешно, друзья.
Я сижу в полупустом кабаке
с полупустой кружкой пива,
заливаю его в полупустой желудок,
да и сам я – полупустой.
Широкий экран вещает мне
дерьмовую музыку.
За окном – темная осень,
освещенная светом,
исходящим из окна,
за стеклом которого нахожусь я.
Осень.
Я смотрю на нее.
Ее мокрый асфальт – роскошное платье,
переливающееся отблесками луж.
Ее черное небо – волосы бесстыдно распущенных звезд.
Ее грязные монстры машин,
каменные кладбища домов,
странно-комичные фигуры прохожих – лицо под полупрозрачной вуалью.
Я один.
Со мной лишь прочитанные книги и
любовь? –
В топку.
2009 г.
Это мой собственный, дорогой сердцу ад.
Тихое отчаяние.
Прохладный кефир в похмелье,
клавиатура ноутбука, рождающая на свет слова
Любовь – в мусорном ведре
Вера кувыркается в постели с кем-то другим
Надежда смеется надо мной, а я смеюсь над ней
Она чертовски смешная, эта Надежда.
Надежда, что все станет лучше,
Надежда, что мне повезет,
Надежда, что я не помру раньше, чем меня кто-нибудь напечатает,
Надежда на свою дозу радости,
на свою каплю искренней и чистой радости,
на терпкий глоток прозрачной и безмятежной радости.
2009 г.
Временами, когда я смотрю в телевизор, меня поражает жизнь.
Я заглядываю в мир этих людей –
так ночь заглядывает к тебе в окно.
Их машины,
их белые и ровные зубы,
их золотые тела,
их пузырящийся, как дешевое шампанское, смех,
их пустые разговоры,
их дерганые фигуры,
их вскинутые руки,
их пустоглазые глаза,
их пустоголовые головы,
их пластилиновая любовь…
они все там что-то делают,
копошатся.
Как же нас много!
Чувствую, что я лишний.
Мне все это не интересно
Это не мой мир
Они все мне говорят о чем-то,
показывают свои жизни
учат правильно жить меня
я сижу один и слушаю,
и смотрю на них – и не понимаю ни черта.
Они умирают один за другим,
кучами и поодиночке
и продолжают говорить
говорить,
говорить,
и показывать мне жизнь;
продолжают говорить, когда впору молчать.
Отряд по-прежнему не замечает потери бойца
Их слишком много
Нас всех слишком много, чтобы в этом был смысл,
и я тоже умру,
и никто не заметит, что не стало меня,
они так же будут что-то рассказывать
и показывать свои жизни,
только я уже не буду пялиться на них.
Я буду тихонечко разлагаться в покое черных объятий –
молчаливым.
Трезвым я чувствую себя лишним.
Когда я пьян, это чувство не слишком меня беспокоит,
больше того, оно мне даже нравится.
Кабак-осень, 2009 г.
Нет ничего хуже, чем писать, когда нечего писать.
Нет ничего хуже, чем пить для того, чтобы не умереть.
Нет ничего хуже, чем любить и не быть до конца в этом уверенным.
Нет ничего хуже, чем чувствовать себя исключительным и сомневаться в этом.
Нет ничего хуже, чем тешить свое самолюбие одиночеством.
Нет ничего хуже, чем теплая водка и пьяная женщина.
Нет ничего хуже, чем полуночный ужас существования.
Нет ничего хуже, чем смотреть телевизор вместо того, чтобы жить.
Нет ничего хуже, чем скулящая слабость мужчины.
Нет ничего хуже, чем несмешные люди, пытающиеся рассмешить.
Нет ничего хуже, чем нежно-грустно-блевотные стихи.
Нет ничего хуже, чем боль, тошнота и безысходность похмелья.
Нет ничего хуже, чем творить, ощущая ненужность творчества.
Нет ничего хуже, чем неизбежный страх неизбежности.
Нет ничего хуже, чем молитва, звенящая пустотой.
Нет ничего хуже, чем беспокойство о несправедливости жизни.
Нет ничего хуже, чем жалеть о том, что невозможно исправить.
Нет ничего хуже, чем умереть, так и не узнав себя.
Нет ничего хуже, чем оригинальная банальщина этих строк.
Конец 2009 года.
Слова человека, лежащего на верхней полке
Похмельным сел в поезд.
Последнее время я слишком много пил,
чтобы это не отразилось на моем внутреннем мире.
Внешне я отек и отяжелел,
мой внутренний мир начал гнить и вонять.
Я почти совсем протух изнутри
Самоубийство каждый день
ржавым гвоздем вколачивалось
в мою буйную голову
всё глубже и глубже.
Таковым, отекшим и глупым,
я сел в вагон поезда,
который должен был помочь мне умчаться
от самого себя.
Я должен сменить картинку вокруг,
чтобы не свихнуться,
чтобы не сдохнуть раньше времени,
чтобы бытие определило сознание.
Мне нужен воздух,
свежий
воздух.
Поезд тронулся со всеми нами,
со мной.
Я сам с собой
наедине.
Извлек из целлофана
влажное постельное белье,
полученное из рук полной и уютной проводницы,
расстелил его привычно на верхней полке.
Улегся.
Вдохнул свою слабость.
Затем вставил в уши наушники
и узнал,
что даже мертвые могут танцевать –
Лиза Джеррард запела
Она пела только мне одному