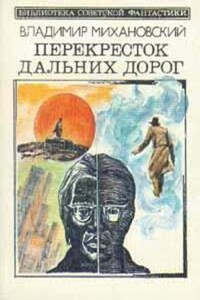© Александр Михалин, 2023
ISBN 978-5-0050-6653-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Самоубийство. Первый Пролог
Ибо умерший освободился от греха.
Послание к римлянам Святого апостола Павла, 6.7.
Для простоты забывания у меня отсутствует человеческая душа. Но я помню всё.
Как-то меня проглатывали живьём, не коснувшись зубами, широко распахнув челюсти, протолкнув языком. Пищевод давил и толкал к желудку, грубо драл кожу. Липкая слюна разъедала моё тело. Когда глотают живьём, выход один: умереть ещё в пищеводе, ещё до того, как желудок зажмёт своими складками, начнёт перетирать и растворять струйками соляной кислоты. Растворяться в кислоте заживо – очень мучительно и несправедливо. И я успел шагнуть из того тела и той жизни ради другого себя, в другом теле, на берегу другого моря.
Самоубийство, как жертвоприношение самому себе.
Когда же убиваешь свою человеческую оболочку выстрелом, лучше ни о чём не задумываться, а довериться рукам: они уже привыкли к убийству и сделают всё сами – быстро и просто. Человека лучше всего сумеют застрелить его собственные человеческие руки. И вот однажды я не думал о выстреле, не рассчитывал, не направлял ствол, потому-то траектория полёта пули пролегла исключительно удачно. Умная пулька точно перебила основание моего позвоночника, порвала и разбрызгала продолговатый мозг, и моё человеческое тело умерло по-звериному, на охоте. И даже боль не успела утвердиться, а лишь остро и коротко лизнула меня внутри черепа. Чья-то нога твёрдо наступила на моё правое запястье, а другая нога ловко выбила из моей ничего не чувствующей руки опустевший пистолет. Чьи-то горячие потные пальцы вынулись из перчатки, ткнулись в мою шею и убедились по отсутствию пульса, что человеческое тело с выбитым наполовину мозгом всё-таки неизбежно умирает. Кто-то опоздал настичь меня и официально вручить смерть без возможности отказаться.
Самоубийство, как утверждение права ухода из жизни по собственному желанию.
Самое безобидное и совсем безболезненное – выпускать прежнюю жизнь из себя по капле, по фрагментику, в тишине, погружаясь в сон, как в тёплую воду, или, по-другому, ныряя в тёплую воду, как в галлюцинацию. Нежно и бесшумно оставлять своё ставшее бессмысленным и неинтересным тело. И не проснуться никогда в прежнем теле, а проснуться в другой жизни. Очнуться. И тем самым продолжить миражность существования на дороге скорби в ад, в огненную страну неизбежного за дымной рекой забвения. На самом-то деле выбора нет, хотя все пытаются что-то избрать или сделать вид, что избирают. Иллюзия смерти опровергается неизбежностью нового воплощения в жизнь.
Самоубийство, как переход в самого себя.
Так раз за разом смертью можно пытаться исправлять ошибки жизни, но при этом совершать новые ошибки. Раз за разом не покидать единственную реальность своего существования. Или продолжать бред принимать за жизнь.
Есть только одно, чего не исправить ни за что и никогда. Ведь сколько бы не случалось смертей, всего один-единственный раз, давным-давно, сквозь короткую, скользкую…
«Гм… короткая, скользкая… Фу! Гадость какая-то…»
Человек в кресле отложил чтение рукописи, выключив экран монитора, нажал на нумерованную кнопку офисного телефона и вызвал его к себе в кабинет.
Человек в кресле был для вызванного в полном понимании бытия един в трёх ипостасях: дядя, друг, шеф.
Человек ждёт его в глубоком кресле. В кресле на колёсиках. Ему всегда казалось неким противоречием удобное, внушительное, как модерновый трон, кресло этого человека, и – колёсики. Человеку в кресле отнюдь так не казалось.
Человек в кресле говорит:
– Прочитал твой роман… Хм… «Однажды умереть»… Интересно, но бессмысленно. Для чего ты это написал? Почему ты написал это именно так? Графоманский зуд? Тщеславие? Хочешь оставить имя в веках? Глупо.
Человек в кресле хмыкает снова. И катится в своём монументально-подвижном кресле в сторону одного из металлических шкафов, заслонивших своими широкими спинами все стены обширной комнаты. Человек в кресле выдвигает один из ящиков, достаёт несколько толстых папок и подаёт ему со словами:
– Взгляни, открой и посмотри: на каждой страничке любого документа – твоя фамилия и подпись.
Человек в кресле хлопает по гулкому боку шкафа и заключает безапелляционно, как это умеет:
– Архив! Документы в архиве будет храниться десятилетиями, веками. И твоё имя на документах – тоже. Твоё имя – в веках! Надёжно! И без всяких бессмысленных романов. Бюрократия – бессмертна!
И добавляет:
– Подумай об этом.
Он же в ответ дяде, другу и шефу вздыхает, пожимает плечами и молчит.
А потом он идёт по длинному коридору и думает. Длинному, длинному, длинному, достаточно длинному коридору, чтобы успеть подумать. Подумать о том, что возможно и впрямь бессмысленно было писать роман. Подумать о том, что, наверное, бессмысленно было написать роман так, как роман написан. Подумать о том, что зря он вставил в роман в самом начале, в прологе, человека в кресле, потому что человек в кресле – дядя, друг, шеф в одном лице – обострил его сомнения. Сомнения. Сомнения не оставляли его всё время, пока он писал. То и дело возвращаясь. Вдруг всё и в самом деле глупо и бессмысленно? А?
Человек же в кресле в то же самое время, вероятно, то есть почти наверняка, то есть точно читал на широком светящемся экране: «Часть первая. Зверь… Гм… Сквозь короткую…»
Они, как бессловесные животные, водимые природою, рождённые на уловление
и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своём истребятся.
Второе соборное послание Святого апостола Петра, 2.12.
Глава 1. Рождение в океане
Сквозь короткую, скользкую от обильной слизи, мускулистую щель меня вытолкнуло наружу из полости, располагавшейся рядом, через тоненькую кожицу, с клоакой рожавшей меня матери. Так я начал жизнь икринки – вблизи с извергающей клоакой. Много позже мне случалось видеть, как рожают другие самки – они так напрягаются, что их кишечник невольно опорожняется. Женщинам перед родами ставят клизму, но это не всегда помогает. Я родился так же, как и все рождаются в этом мире. Вмести со мной выпали в океан мои братишки и сестрёнки – икряным комком.
Но помню-то я себя, как и положено хищнику, с зачатия. Чувства ещё не проявлялись, а потому – какое-то постоянное плескание в тёплой темноте. Но уверен, что уже тогда я был собой – живым. Там же, в темноте постепенно ко мне пришло и первое знание: о том, что я обременяю и раздражаю, что меня невозможно более держать внутри, а пора выпростать наружу – мысли моей матери перед родами. У нас с матерью до моего рождения мысли сплетались в общий клубок, и мысли матери превосходили мои протомыслишки.