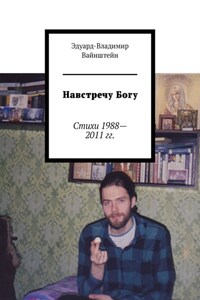***
Мне, гадкому утёнку в детстве,
понятны все превратности пути:
и клювы острые, и стрессы, лиходейство,
подставы и предательство!
Вкатить
и я могла мальчишке прямо в печень —
драчунья и кусака. А ещё
могла я заступиться, «если чё»
за слабых первоклашек-человечек!
Мне, гадкому утёнку, в стае из
дворовых девочек и местных хулиганов
бывало горько. Помню, на карниз
однажды встала! Если бы ни мама
и если б не спасительный отец!
Я выросла. Хранил меня боец —
мой ангел, серафим, шальная птица.
И я была, как в поле, единица!
Что дальше было? Техникум и ВУЗ
и сурдопереводчиц древний курс,
и первое замужество на сдачу.
И я рожала маленьких детей
без обезболивания, тогда, поверь,
что кроме анальгина и в придачу
увещеваний: «Милая, терпи!»
нам, женщинам, ничто не доставалось!
Так в девяностые рожали мы, в горсти
сжимая простынь и впадая в ярость.
Но я горжусь, что не орала я,
не плакала я и не материлась.
Во мне священное из крови и нытья,
во мне утробное из звёзд, любви, житья!
Поэтому – жила во мне терпимость…
Не надо говорить – се есмь враньё! —
Леонтьева, как оборотень, вруша.
Нет, я, как бабка! Это есть моё!
Варила, шила и ждала я мужа.
А после дочь из школы я ждала,
а после сына я ждала влюблённо!
Не надо делать из меня орла.
Не надо делать из меня ворону.
Лернейску идру, чудище обло,
слониху, черепаху, волколака.
Из гадкого утёнка всем назло
выпархивает лебедь лишь, однако!
***
Не гляди на мои локоны, крашеные губы,
каблуки двенадцать сантиметров, юбку «до самого».
Такие, как я, лишь на расстоянии любы,
а в душе у меня – зверьё полосатое!
Издали идёшь и думаешь:
у неё там по венам берёзки кудрявые,
у неё там по косточкам текут птицы рунные,
у неё там, в животе семиструны с октавами!
Что она такая шёлковая, плюшевая да круглая
для любви красно-дневной,
для песенок рыцарских.
А у меня давно по венам берёзы обуглились,
а у меня давно разногласия с птицами.
У меня давно ворон ворону глаз повыклевал,
у меня давно вор у вора украл (вор ты, деточка!),
и не кукла я та, что шитая лыками,
я – боец, а не тонкая веточка!
Я сама вам спою неубитою родиной,
я сама вам станцую Хака перед битвою.
Не нужна мне поддержка, сама по сугробам я,
и сама по горе: пятки сбитые
до кровавых мозолей. А парни-то, парни-то
стали женоподобными – в шёлковых плащиках.
Вот поэтому женщинам-воинам надобно
собирать рать, в сраженье идти против нациков!
Я таскала мешки да кули, доски, брёвна ли,
оттого ноги точит мои артропластика!
Но не Сонечка я – груда розовых слоников,
мне Алёнушка ближе, что Арзамасская!
Мне сражаться лишь с теми, кто равен по матрице,
ах ты холм, ах ты сопка, крутой берег капища.
Выхожу – туфли красные, красное платьице.
Мой исток внутри сердца.
Он матричный!
***
Двадцать первый наш век – Бородинское поле,
обойти невозможно. И не обойти.
Эй, вставай, поднимайся, ешь хлеб и пуд соли,
богатырь – русский воин, иначе кранты!
Ястреб-жизнь, речка Стикс, этот смертный журавлик,
помни то, что ты – поле, и ты здесь стоишь.
И ты будешь стоять, хоть и крылья оплавишь,
и ни шагу назад за Урал и Иртыш.
Опираясь на стержень, на ось, взмоет «мавик»,
всё, что к полю пристрочено, это – твоё!
ястреб-жизнь, речка Стикс, этот смертный журавлик,
всё, что связано родиной – есмь Житие.
И пока живы мы – Нестор жив, мних кудлатый.
Пушкин жив и Булгаков, и Грек Феофан,
и Мария Ивановна в петельке мятой,
и Каренина Анна – в надрыв, между шпал,
и вот это – «я – Ксения стала Андреем!»,
Ярославна рыдает на взгорье-стене.
Супротив врагов поле, как смерть красным рдеет,
терпко жжёт да болит, крепко ранит в стерне.
Похороним врагов – у нас несть подземелья,
для холмов, означающих – прочь с наших пашен!
Для курганов, кричащих – идите отсель вы,
Бородинское поле – защитное наше
по итогу побед, где дорога да синь,
по итогу экзистенциальности Бога.
Бородинское поле – его не сносить,
это вам не пальто, это вечная тога,
это бронник и каска, и танк, щит и меч,
это Брестская Крепость и Кремль, и Иссакий!
Я не знаю, как вам, мне почётно здесь лечь
и уже никогда не иссякнуть!
Походная жена, чухонская царица, золушка…
Страной столетье правил женский пол!
То немку, то датчанку брали в жёнушки
цари великие. У каждого камзол
расшит сребром да златом первой пробы.
С чего бы так? А как ещё Европу
нам приручить? Через любовь, постель,
так спит земля с землёй иных земель.
И Змий, и яблоко в одних руках царёвых.
В Исаакиевском храме пели так,
как будто бы не горлом, пели – кровью,
цари датчанок, немок на руках
несли в альков. Их клали на постели,
любили, обладали и потели,
их целовали, нежили впотьмах.
А что сейчас мешает целоваться,
любить и обнажать сих жён, баб, девок
под музыку, под стон, под вопль вибраций?
Пусть женится вся свита! Было б дело!
И корни древа родословного втекали,
простите мне, вовнутрь – в такие дали
аж до Китая…
Особенно мне жалко Лизавету
Петровну: как она мечтала
о Карле (род Гольштейна), в быте – Петя,
но умер он от оспы, шведский малый.
София Федерика Ангальт Цербская
приехала в Россию с дипломатией,
учила русский барышня немецкая,
пока жених играл её в солдатики.
И стала – русской, синеглазой, солнцеликою,
и стала самодержцею великою!
А муж, как наречён, что делал он?
Простое: был смещён и умерщвлён
во имя царствия, во славие престола.
Карл Петер Ульрих – внук Петра, который
в Европу прорубил окно, он мог бы
владеть не только русскою короной,
а мог стать шведским королём, в итоге
он стал покойником…
С тех пор вражда и свара
между Европой восторжествовала.
А может, позже… но всё длится, длится,
у этой свары длинная десница,
у этой шмары двадцать первый на дворе
и апокалипсис, не Висла. Речка-Стикса,
где рыбы водятся – селёдка, угорь, пикша,
зеленохвостые, похожи на пюре.
А здесь у нас есть Матушка-река,
а здесь у нас есть батюшка-Байкал,
нам не нужны ни свары и ни шмары,
из дерева, разбитой стеклотары.
Мне жалко только яйца Бомарше —
изобретателя, агента, музыканта.
Закуривай! Европы нет уже,
она, что Азия, шахидка-эмигрантка.
Ничего не осталось. Совсем ничего.
Ни тарелки, ни фартука, ложки, платочка.
Лишь цветастый застиранный половичок,
крепко сцепленный ниткою – белая строчка.
Домотканые тёплые половики,
каждый коврик, что праздник, что Пасха, что эрос.
Моя бабушка Нюра. В четыре руки
мы клубки с ней плели, как эпоху, как эру.
Из старья, из тряпья. Из рубашек и брюк.
О, какие мы делали ленты цветные,
как стрекозы, как бабочки. И возле рук
они плавно взлетали, порхали вокруг;
открывался старинный пахучий сундук
нить ложилась на дно. В память, в явь и во сны. И
накорми наше море большим кораблём!
Накорми нашу сушу двором, сквером, пеньем.
Знаю: смертные все… Но не бабушка! Льном,