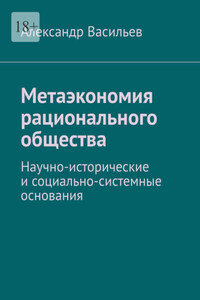Утром выхожу во двор неторопливо, важно. Нельзя торопиться, если на тебе новая куртка, простёганная ромбиками, из-под неё выглядывает новая же юбка в складку, а в новых красных ботинках уважительно отражается восходящее солнце. Любому пятилетнему человеку известно, что в такой одежде нельзя бегать по двору. В такой одежде полагается сесть на перила крыльца, расправить юбку и ждать. Бабушка подоит коров, разольёт молоко по двум большим бидонам, и мы с дедом повезём его в город, на продажу.
Весна уверенно распоряжается во дворе. Дорожка, ведущая к коровнику, почти подсохла. На пригорке распушилась мать-и-мачеха, заодно выбралась погреться на солнце всякая травянистая мелочь. Суетливые куры молотят клювами землю, размякшую от солнечной щекотки.
Усидеть на крыльце никак не получается: в тени забора я замечаю затаившиеся, грязные остатки сугробов. Каблуками новых ботинок безжалостно разбиваю снег в серую кашу. Утреннее солнце её охотно подъедает. Окончательно прогнав зиму из нашего двора, счищаю грязь с подошв об острый скребок, прибитый дедом к нижней ступеньке крыльца. Вот теперь можно разложить отглаженные складки юбки по широким перилам.
Слышно, как за дощатыми дверьми молоко шумно льётся сквозь марлю, натянутую на широкие горла бидонов. Шуршит тихий бабушкин смех, гудит весёлый дедов баритон. Устав от нетерпения, я приоткрываю дверь. Бабушка звонко шлёпает деда по руке, оторвав от своего подола его широкую ладонь.
– Дурак старый!.. Иди, дитё ждёт.
Дед забрасывает на плечо два связанных бидона. В каждый из них я могу заглянуть, только встав на цыпочки.
До автобусной остановки идти долго. Недавно вспаханное поле отделяет нашу окраину от центральной площади посёлка. Над полем прозрачно переливается тёплое утреннее марево, страстной звонкой дрожью заходится жаворонок. Его не видно в яркой слепящей вышине, поэтому кажется, что звенит солнечный свет.
На узкой полоске между полем и посёлком бабка Настя Кузнецова пасёт долговязую корову. Тяжёлая, маслянистая от грязи верёвка двойной петлёй наверчена на рога. Корова зыркает исподлобья на костлявую Настю, зло щиплет редкие блёклые травинки. Настя экономит сено, чтобы продать его соседям. Они по своей бездумной жалости почти все запасы уже скормили. Коровы у них балованные, выискивать пропитание на зябкой земле не приучены. Настину корову дед уважает за живучесть и зовёт её «северным оленем».
Страшная жадность Насти Кузнецовой фантастична и легендарна. Заплаты на её платьях хороводом цепляются друг за друга, боясь разлететься в стремительной трусце, которой Настя передвигается по посёлку. С огорода она тащит на рынок всё, что успевает пробиться на свет сквозь комковатую землю, ни разу не пригретую мягкой навозной теплотой. Драгоценные лепёшки, выпадающие из-под коровьего хвоста, Настя тоже продаёт, заламывая цену в зависимости от конфигурации и густоты товара. Молоко от собственной коровы для неё слишком дорого: Настя пьёт только воду и безуспешно пытается отбить у деда клиентов. Но жидкий синеватый продукт от «северного оленя» не пользуется спросом у городских хозяек. Они избалованы дедовым душистым лакомством, в белоснежной глубине которого сочно теплится летнее солнце. Мой приятель Витька Самойлов утверждает, что под самодельными обоями из старых газет стены Настиного дома оклеены сотенными бумажками.
Настя стреляет в наши бидоны завистливым взглядом, и дед останавливается передохнуть. Как об известном деле, заводит разговор о денежной реформе. Вроде как по радио опять говорили. Ему-то, деду, беспокоиться не о чем. Всех запасов триста рублей, да и те в городе, «на книжке». Говорят, которые «на книжке», поменяют на новые деньги без потерь. А которые дома, те, конечно, надо бегом в сберкассу… Ну, да нас это не касается.
Толстая верёвка дрожит в сухой настиной руке. Дед невозмутимо прощается, снова закидывает бидоны на плечо. Мы сворачиваем на поле. Я иду вслед за дедом, его хромовые сапоги протаптывают мне плотную дорожку в мягкой земле. По широкой спине я вижу, что он улыбается.