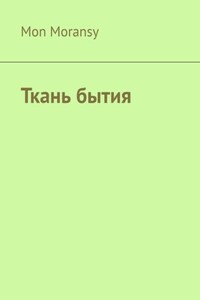Алеку Уэйнрайту было под шестьдесят, его очаровательной жене – тридцать восемь, и в этом опасном возрасте, накладывающем весьма своеобразный отпечаток на психику любой женщины, Рита Уэйнрайт встретила Барри Салливана.
К несчастью, я последним заметил, что происходит.
Не ошибусь, если назову положение семейного врача привилегированным и затруднительным одновременно. Владея секретами пациентов, мы имеем право читать любые нотации, но только в том случае, если к нам обращаются за советом. Однако у нас нет права обсуждать чужие тайны на стороне, поскольку даже по нынешним временам врач-сплетник не вызовет у окружающих ничего, кроме отвращения.
Практика у меня, разумеется, уже не та, что раньше. По большей части ее перенял мой сын Том – вернее сказать, доктор Том, – поскольку я, доктор Люк, уже не в силах подскакивать среди ночи и пускаться в десятимильное путешествие по скверным дорогам Северного Девона, а Том гордится подобными случаями и находит в них немалое удовольствие. Он прирожденный сельский терапевт и обожает свою работу не меньше, чем я, хотя моя любовь осталась в прошлом. На вызове Том внимательнейшим образом осмотрит больного, выслушает жалобы, а затем, не скупясь на загадочную терминологию, объяснит, в чем дело. Эта впечатляющая речь не только развлечет пациента, но в первую очередь придаст ему уверенности в скором выздоровлении.
«Не стану скрывать глубоких опасений, – скажет Том с присущей ему мрачностью, – что мы имеем дело…» – и за этим последует нескончаемый монолог на латыни.
Да, кое-кто предпочел остаться под моим присмотром, но лишь потому, что некоторые желают лечиться не у юноши с горящим взором, а у меланхоличного специалиста преклонных лет. Когда я был молод, врачи непременно носили бороду. В ином случае им никто не доверял. Подобные нравы и по сей день сохраняются в тесных сообществах вроде нашего.
Стоящая на побережье Северного Девона деревня Линкомб с некоторых пор приобрела дурнейшую славу вследствие событий, описывать которые трудно и больно даже теперь, но сделать это попросту необходимо. Линмут (как вам, наверное, известно) является морским курортом. За ним, если подняться на крутые утесы пешком или на фуникулере, обнаружится местечко под названием Линтон. Чуть дальше по склону расположен Линбридж, а еще дальше, где дорога перестает быть извилистой и начинаются верещатники Эксмура, находится Линкомб.
Поодаль от деревни стоит большой дом с мансардой, где жили Алек и Рита Уэйнрайт. Между ними и цивилизацией простирались четыре безлюдные мили, но автомобилистку Риту это вовсе не смущало. Местечко, известное как «Монрепо», или «Мое отдохновение», было дивным, разве что сыроватым и ветреным. Сады поместья тянулись до самых утесов и мыса с романтическим названием «Прыжок влюбленных», семидесятифутового обрыва, за которым пенились на камнях во́ды могучих течений и опасно глубоких приливов.
Мне нравилась, да и до сих пор нравится, Рита Уэйнрайт, за аристократическим позерством которой скрывалось по-настоящему доброе сердце. Слуги боготворили ее. Пусть взбалмошная и неуравновешенная, при любых обстоятельствах Рита лучилась жизненной энергией, и никто не стал бы отрицать, что выглядела она потрясающе: блестящие черные волосы, смуглая кожа, дерзкий взгляд и нервозно-импульсивные манеры. Она сочиняла стихи и, по правде сказать, нуждалась в супруге своего возраста.
Алек был для меня скорее загадкой, хотя я неплохо знал его, имея обыкновение коротать субботние вечера в доме Уэйнрайтов за игрой в карты.
Он отличался незаурядными умственными способностями, но к шестидесяти годам те, вкупе с привычками и манерами, мало-помалу начали увядать. Состояние он нажил неустанным и честным трудом; в свое время Алек преподавал математику и женился на Рите еще в Канаде, восемь лет назад, когда работал в Макгиллском университете. Людям помоложе этот невысокий и коренастый обладатель негромкого голоса и суетливых манер казался не самой подходящей партией для Риты, но у него – по крайней мере до той поры, как ситуация приобрела пугающий характер, – имелось прекрасное чувство юмора. При желании он умел развлечь собеседника, а от Риты был без ума и любил украшать ее бриллиантами.
Беда в том, что еще до описанных ниже событий Алек начал злоупотреблять спиртным. Не скажу, что его пристрастие бросалось в глаза или причиняло неудобства окружающим. Напротив, оно оставалось почти незаметным. Ежевечерне Алек потихоньку выпивал полбутылки виски, после чего мирно ложился спать. Он все сильнее замыкался в себе – сворачивался, будто еж, – а затем грянула война.
Помните то теплое воскресное утро, полное сентябрьского солнца, когда по радио прозвучало судьбоносное объявление? Я был дома, один, в махровом халате, и слова «Мы вступили в войну» разнеслись по всем уголкам наших комнат. Первой мыслью было: «Ну вот, опять», дальше какая-то пустота, а затем: «Неужели Тома отправят на фронт?»
Какое-то время я сидел, уткнувшись взглядом в тапочки. Лаура, мать Тома, скончалась, когда я был на прошлой войне. Тут заиграла песня «Как будто ты единственная девушка на свете». Бывает, при звуках этой мелодии у меня на глаза наворачиваются слезы.
Я встал, надел пиджак и вышел на Хай-стрит. В палисаднике распускались хризантемы и вовсю цвели прелестные астры. Через дорогу Гарри Пирс только-только открыл свой бар: в тишине заскрипела и хлопнула дверь «Упряжки». Затем заурчал автомобильный мотор. На улицу медленно выкатил «Ягуар-СС» Риты Уэйнрайт, и его фары сверкнули на солнце.
На Рите было что-то яркое, в обтяжку, подчеркивающее фигуру. Она по-кошачьи плавно выжала сцепление, нажала на тормоз, и «ягуар» остановился. Рядом с Ритой сидел Алек в панаме и старом костюме, по обыкновению невозмутимо-кроткий, но какой-то пожухлый и бесформенный. Я слегка оторопел. Уже тогда мне показалось, что этот человек очень стар и скоро умрет.
– Что ж, – уныло произнес он, – вот и началось.
Я не мог не согласиться.
– Вы слышали речь по радио?
– Нет. – Похоже, Рита не без труда сдерживала охватившую ее панику. – Нам сообщила миссис Паркер. Подбежала прямо к машине. – Белки ее недоумевающих карих глаз светились, как жемчужные. – Но это попросту невозможно! Невозможно, так ведь?
– Меня тошнит, – тихо молвил Алек, – от глупости человеческой.