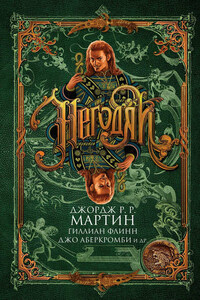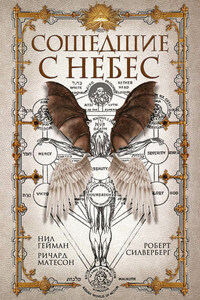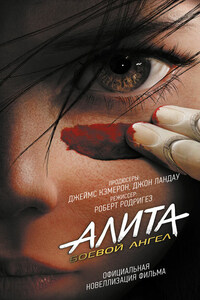Жизнь, бывает, заносит в пороговое пространство. Когда и случаются всякие дерьмовые странности.
Вообще-то я считала это сдвигом восприятия. Онколог берет и сообщает тебе, что рак матки, который медики полагали пропавшим, вернулся; как ожидается, жизнь твоя продлится (возможно) года два. Вот тут система понятий личности и меняется до неузнаваемости: ее определяет то, чего ты прежде не испытывала никогда.
Не стану говорить о чьих-то еще переживаниях, но вот вам мои: когда появляется ребенок, узнаешь, что́ важно. И это, друг мой, проклятущая тайна жизни. Уверена, есть иные способы прознать про это, я же узнала вот так. И я решила, что это Большое Дело: мне никогда не сотворить ничего более проникновенного, чем материнство. Мне ни разу и в голову не приходило, что Большие Дела это не только то, что ты делаешь: они еще и происходят с тобою.
Онкоцентр Макмиллана в Лондоне – место вполне славное. Ему придали вид гостиничного фойе или, может, читального зала библиотеки. Я бывала в служебных помещениях «Гугл» (или как он там еще зовется) в восточном Лондоне (можно обратиться туда или отыскать что-нибудь еще), так Центр Макмиллана поприличней будет. Отличное было б место провести время, если б жаба не душила всякий раз, когда туда приходится идти.
Я знала, что это рак. За год до этого мы сошлись с раком матки, и тогда о нем позаботились с помощью гистерэктомии[1]. Просто я не знала, то же ли это самое или что-то новое. Мысли в голове ворочались вроде таких: «А я полысею?», или «А есть где специальное место, чтоб купить такие шарфы на голову с надписью «У меня рак»?», или «Будет ли меня выворачивать настолько, что я и в самом деле вес сброшу?» – вот такое дерьмо. А потом онколог, эта славная леди в изящном шерстяном платье, еще изящнее дополненном набивным шарфом, золотой брошью и простыми черными лодочками на низком, но внушительном каблуке, сообщает, что мне светят два года. И потом добавляет: «Возможно, и меньше».
Медсестра из Макмиллана звонит мне, когда я в автобусе возвращаюсь домой. Она потрясная, медсестра моя из Макмиллана, но я говорю, что перезвоню ей позже: ну не вдохновляет меня посвящать сидящих вокруг незнакомых людей в содержание повести о моем горе. Но когда она дает отбой, думаю, а не поговорить ли вслух с отключившимся телефоном, будто медсестра все еще на проводе, – просто для того, чтобы вывалить все это из себя: «Онколог сказал то-то и то-то, а я сказала то-то, и сейчас я чувствую… ля-ля, ля-ля, ля-ля. Вы, значит, считаете, что у вас день не удался? Взбодрись, пилигрим, могло быть хуже!» Но не говорю.
Удача меня почти совсем не балует, а если и достается когда, то нет в ней ни шиша хорошего. Телефон, наверное, зазвонил бы посреди моего печального монолога. Изобразив трагическую героиню, я выдала бы концовку истории из реальной жизни, которую потом, наверное, ветром Интернета занесло бы на «Ютуб», по милости чьего-нибудь мобильника. Жизнь готова прикончить тебя безо всякого позыва с твоей стороны, так зачем искушать судьбу и унижать себя до того, как уйдешь?
Когда я добралась домой, мой сосед снизу, Тим, возился в садике. Он славный парень, еще не дотянувший и до половины моих лет, зато успевший на ту же половину вытянуться выше ростом. Обычно я останавливаюсь поболтать с ним, но не сегодня. Знаю: стоит мне рот открыть, как из меня фонтаном забьет, а мы с ним не настолько хорошо знакомы для такого рода откровений. Славный малый, он, наверное, позвал бы меня на чашку чая и сочувственно выслушал бы, но сейчас мне этого не вынести. Плюс, как я сказала, он вполовину меня моложе: думает, наверное, что шестьдесят два – это возраст старческий. Так что я улыбнулась, постаралась изобразить жуткую занятость, не дающую остановиться и поболтать, и скользнула к себе за дверь, едва с замками справилась. Приходил и ушел почтальон, оставив мне единственный желтый конверт на коврике у начала лестницы. Адрес был перечеркнут двумя жирными синими чертами, и черным фломастером приписано слово «Скончалась?».
– Нет еще, спасибо вам большое, – сообщила я конверту, поднимая его. На нем карандашом было написано число, похожее на какой-то порядковый номер – мне он ни о чем не говорил. Черными чернилами, другим почерком выведено: «По данному адресу больше не проживает», – а ниже что-то вроде имени или инициалов – «Джеп».
– Эй, не считай кого-то умершим, – ругнула я конверт и включила верхний свет, чтоб разглядеть, кому он адресован.
Сержанту уголовной полиции (в отст.) Майклу Паррису
Оак-Хаус
Стэйшн-Роад
Фишпондс
Бристоль
Одна из жирных черт проходила по почтовому коду, а потому разобрать его я не могла, да это и не важно. Я не знаю никого в Бристоле. И не знаю я никаких полицейских, хоть в отст., хоть еще каких. Перевернула конверт, но на обороте не было ничего, кроме «Вернуть отправителю», – тем же синим цветом, что и линии, перечеркнувшие адрес.
– Не тот отправитель, – говорю. Уже собралась приструнить себя за то, что болтаю вслух, будто полоумная леди-старушка, как заметила, что конверт был вскрыт, а марка или платежный штамп с него срезаны. Вот-те раз, ахнула, до чего ж слепая стала. Надо бы этому, как его там, показаться.
Раздумывая, не спросить ли Тима, не ему ли это послание, все же высвобождаю содержимое себе на ладонь. День у меня выдался крутой, и есть настрой на дешевенькую щекотку нервов от чтения чужого письма. Понятия не имею, чего такого я ожидала: поздравительной открытки ко дню рождения с вложенной в нее пятеркой, или любовного послания, или записки от ребенка сержанта уголовной полиции (в отст.) Майкла Парриса с просьбой о деньгах. Все то, что мне досталось, я разложила на кухонном столе. Не так-то много. Два листка бумаги, один – оторванные полстранички с запиской:
Майкл
Пожалуйста, помоги
K
xx
Мне не звони
Я глянула бумажку на просвет, но не было ни водяных знаков, ни следов, указывавших, что на листе, лежавшем сверху, что-то писали.
Вторая бумажка была почтовым листком. Логотип в правом верхнем углу гласил: «Гостиницы «Четыре столпа». Я о такой гостиничной сети не слыхивала, но на свете много такого, о чем я не слыхивала. В нижнем левом углу имелись старательно сведенные в узор каракули: полная абстракция, зато у черкавшего были подлинные художественные способности. Я надела очки для чтения, чтобы рассмотреть получше, и обнаружила, что никакая это не абстракция, в общем-то. В самой плотной части всех черточек, волнистых линий и решеток читалось одно-единственное слово: «УБИЙСТВО». Писавший прошелся по каждой букве по нескольку раз, отчего они сделались выпуклыми.
Пониже рисунка, как будто листок повернули, чтобы рисунок оказался сверху, значилось: