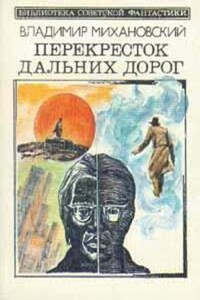>П. Амнуэль.
Литература,
создающая миры1
Прошедший ХХ век был веком научной фантастики. А нынешний – ХХI? Ведь наука сейчас вовсе не стала развиваться медленнее, напротив, темп развития современных научных исследований таков, что ни журналисты, ни даже большинство писателей-фантастов попросту не успевают отслеживать новые открытия. Что уж говорить о том, чтобы их предсказывать, как это было в прошлом!
Оставим в стороне вопрос о том, должна или нет научная фантастика, которая все-таки является часть художественной литературы, а не науки, что бы то ни было предсказывать. Предположим, что не должна, как это утверждают многие авторы-фантасты, когда их укоряют в том, что жанр уже довольно давно перестал «показывать зубы» – вот, мол, в ХIX и первой половине ХХ века писатели-фантасты каким-то образом умели предвидеть развитие науки и технологий, а впоследствии это умение то ли исчерпалось, то ли исчезло за ненадобностью.
Пусть фантастика не обязана ничего предсказывать, но ведь авторы это умели делать раньше, умеют и теперь, просто количество писателей, работающих в поджанре прогностической фантастической прозы сократилось до числа пальцев на одной руке.
Тем не менее, очевидная прежде связь фантастической литературы с научно-техническим прогрессом оказалась разорванной.
Во времена уже подзабытые был в ходу журналистский штамп – «наука опережает фантастику». Связь художественной фантастики с научным поиском представлялась тогда вполне очевидной. НФ, особенно в ее «доефремовский» период, рассматривалась как литературный жанр, обеспечивающий пропаганду научно-технических достижений.
На самом деле хорошая фантастика, конечно, опережала науку. У того же Беляева – «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» и, наконец, «Ариэль».
Впрочем, даже если один штамп заменить другим («Фантастика опережает науку»), то и он будет следствием сужения границ жанра. Опережать или догонять можно лишь в том случае, если идешь по одной дороге. А если фантаст не желает догонять или опережать науку, а хочет идти вообще в другую сторону?
Сегодня ситуация вывернулась наизнанку. Раньше твердили: «Нужна только научная фантастика». Теперь говорят: «Все что угодно, только не научная фантастика! Научная фантастика себя изжила, и нечего о ней жалеть». Но если так, то зачем автору быть в курсе научно-технических проблем? Чем ему поможет в творчестве и успехе среди читателей то обстоятельство, что он замечательно разбирается в теории систем или в физике частиц? Даже в истории разбираться ни к чему, поскольку историю наконец-то причислили к наукам, а следовательно, изгнали из фантастики.
Изгнание науки из фантастики привело к тому, что автор, садясь за клавиатуру, считает себя обязанным забыть все, что знает из новейших областей науки и техники. Впрочем, термины можно оставить. Когда действие происходит в будущем, не обойтись без звездолетов, реакторов, лазерных дисков, компьютерного софта и клонирования. Но о реальном положении дел в этих сферах знать не обязательно. Поскольку не это читателя интересует. Во всяком случае, так утверждают издатели.
Семьдесят лет советским фантастам и читателям внушали, что фантастика идет от науки, что НФ, хоть и литература мечты и предвидения, но все же – литература второго сорта. А вот «первосортная» литература исследует человеческую душу, это не имеет отношения к науке и, следовательно, вне фантастики. А фантастам – нормальная позиция! – не нравилось клеймо «второсортности». И потому в недрах фантастики еще в советские времена тлел этот задуваемый критиками огонь: «Даешь Большую Литературу!»
И кстати, давали! Но даже сами литераторы были настолько прибиты стандартными определениями фантастики, что, написав нечто действительно фантастическое, но не научное (в смысле – не из области точных или технических наук), искренне считали себя авторами «большого потока». И критики – что еще важнее – тоже полагали именно так. Художественная литература исследует человека. А о железках пусть рассказывает научно-популярная литература. Человека же можно изучать по-разному, используя всякие литературные приемы и методы. Гротеск, например. Или иронию. Или юмор. Или – фантастику. То есть фантастика – это не более чем метод, используемый в художественной литературе. А метод нужно использовать тогда, когда это действительно необходимо. Когда автор иными средствами мысль свою выразить не может. Лев Толстой в «Анне Каренине» не нуждался в фантастическом методе и не использовал его. А Алексей Толстой в «Аэлите» нуждался именно в методе фантастики, чтобы описать свои представления о мировой революции и личности, способной такую революцию осуществить где угодно, хоть на Марсе.
В большинстве современных произведений, относящихся к фантастике, метод используется лишь для того, чтобы установить принадлежность к жанру. Метод вовсе не нужен, но предъявляется как знак, символ. Практически любое произведение современной фэнтези качественно не изменится, если драконов в нем заменить на сверхзвуковые истребители, а на место принцесс посадить вполне современных девушек.
В любом произведении должна присутствовать некая мысль, которую иными средствами выразить или невозможно или, по крайней мере, затруднительно. Фэнтези ближайшая родственница сказке и фольклору. Но настоящие сказки и фольклорные истории содержат идеи, адекватные используемому методу. Поэтому, когда мне говорят, что в фантастическом произведении автор, например, поднял «проблему совести», у меня возникает вопрос: почему для этого использован фантастический метод? Было ли это необходимо, стала ли проблема более острой? Или фантастику привлекли только для того, чтобы книгу было легче продать?
Маятник, качнувшийся в другую сторону, привел к странному парадоксу. Если раньше большая часть фантастов мечтала о том, чтобы их приняли наконец в цех «настоящих писателей», то сейчас кое-кто из «настоящих писателей» использует фантастику для того только, чтобы получить большую аудиторию. Общеизвестен пример, когда автор хороших исторических романов вынужден искусственно вводить в ткань повествования фантастические элементы, чтобы эти романы приобрели популярность, которую они и без фантастики заслуживали. Это именно тот случай, когда метод используется не по назначению.