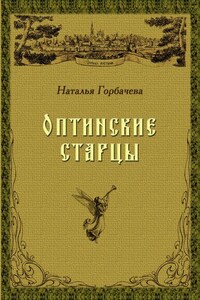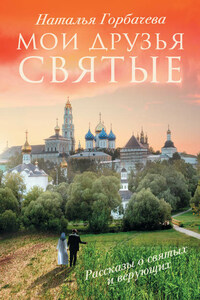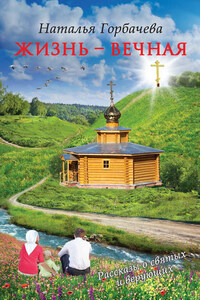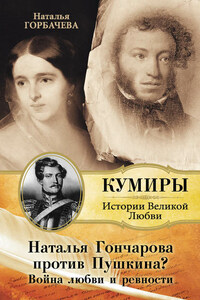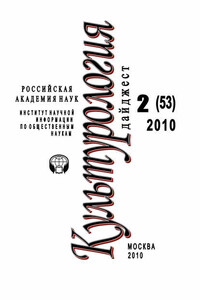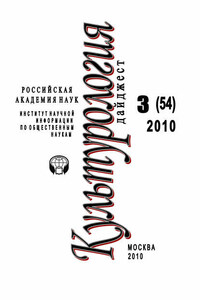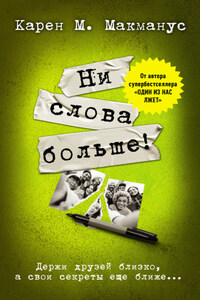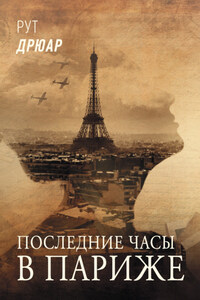Благословенная Оптина. Преподобный Моисей
Оптина пустынь прославилась своими старцами – духоносными прозорливыми монахами. На протяжении всего XIX столетия эта обитель была одним из известнейших духовных центров притяжения страждущих и жаждущих правды Божией православных паломников.
Самое суровое и озлобленное сердце не могло не умилиться и не оттаять при виде живописных окрестностей монастыря, расположенного в центральной, обжитой России, в шестидесяти километрах от древней Калуги. Наверно, о таких-то местах и говорят: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Не березки и рябинки перелесков, но могучий сосновый бор подступает к стенам и башенкам обители. Некогда бор этот был дремучим, обильным всякой дичью. Цапли оглашали окрестности странным своим криком, и питались они неисчислимой рыбешкой, водившейся в неширокой быстроводной речке Жиздре – притоке Оки. На левом берегу Жиздры – роскошный зеленый луг, а к правому подступают белые стены монастыря, похожего на кремль.
До советского разорения Оптиной через Жиздру существовала единственная переправа. Паром приставал прямо перед главными, Святыми вратами монастыря. Монахи на послушании управляли паромом, и каждый по-своему настраивал паломников на пребывание в святой обители – кто молитвенным молчанием, кто приветливым и ласковым словом, а кто и мудрым замечанием, чтобы не с любопытством, но со смирением шли дальше к старцам.
Переправившись через Жиздру, богомольцы сразу попадали в совершенно иной мир: кругом тишина, покой, строгие лица монахов, которые молча кланяются при встрече. Несколько гостиниц с удобными комнатами были к услугам посетителей: многие задерживались не на день и не на два – на недели и месяцы.
Четыре храма стояли на территории монастыря, но особо чтимых святынь не имели. Главным духовным богатством почитались Оптинские старцы, жившие в скиту, в полукилометре от обители. Имена их хорошо известны православному миру, и речь о них впереди.
Скит – это как бы монастырь в монастыре, более уединенный и строгий. На его территории – деревянная церковь во имя Собора Иоанна Предтечи, первого пустынножителя. Скит образовался в начале XIX века[1]>1. На территории скита был разбит фруктовый сад, построены братские корпуса и кельи, обсаженные чудесными цветами, среди которых поэт Апухтин видел, «кажется, и голубую георгину»>2. Райский уголок, но находиться в нем могли только мужчины, женщин в скит не пускали. В кельи старцев входили они с внешней стороны, через отдельный вход.
Расцвет оптинского старчества пришелся на XIX век, особенно последнюю треть его. Но подлинная история монастыря Оптинского уходит своими корнями в глубь веков.
В давние времена постоянные опустошительные набеги крымских татар на южные границы Московского государства заставили русских правителей укрепить засеками всю страну, от Оки до Дона и от Дона до Волги. Одна из таких засек проходила вблизи города Козельска, основанного в 1146 году. В трех километрах от этого древнего города и находится Оптина пустынь.
Сделавшись оборонительным рубежом от набегов диких кочевников, засека одновременно стала и притоном для разбойничьих шаек, наводивших ужас на местное население.
В XIV веке в засеке, прилегающей к Козельску, укрывался грозный предводитель разбойников Опта. Много лет до того он в своих напарниках имел легендарного и жестокого Кудеяра, но потом пути их разошлись.
Случилось нечто невиданное: Опта раскаялся в своих злодеяниях, переменил образ жизни, постригся в монахи под именем Макарий и основал пустынь – уединенный монастырь, где, вероятно, и окончил свои дни смиренным отшельником>3.
Первые письменные сведения об Оптином монастыре относятся к царствованию Бориса Годунова. В Козельских писцовых книгах 1629–1631 годов сообщается, что этому монастырю пожалованы разные угодья на помин души царя Феодора Иоанновича.
В начале XVII века, когда Козельск, а вместе с ним и Оптина пустынь были «без остатку» разорены литовцами, в обители уже существовала деревянная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а в монастыре – шесть келий. В конце века на том же месте была построена каменная церковь усердием окрестных бояр и всякого чину людей. Помогали монастырю и царевна Софья, и цари Иоанн и Петр Алексеевичи.
Но только-только стала устраиваться Оптина пустынь, как на основании «Духовного регламента»>4 была упразднена. В 1724 году ее приписали к Белёвскому Спасо-Преображенскому монастырю: братию, состоявшую из двенадцати человек, перевели в Белёв, куда перевезли и разобранные монастырские ограды, кельи и скотный двор. Оптинский храм был превращен в приходскую церковь, а для служения в ней был оставлен «белый поп» Федор с дьячком.
Через два года по Указу императрицы Екатерины I Оптина пустынь была восстановлена, но имущество ее было возвращено не сразу, и то лишь благодаря официальному вмешательству.
Конец XVIII века явился временем полного упадка и оскудения обители, хотя на пожертвования был отстроен новый каменный Введенский храм. В эти годы число братии не только не превосходило положенных по штату семи человек, но и постоянно было меньше его. Случалось, что настоятель монастыря был и единственным в нем монахом. Жизнь Оптиной едва теплилась, но Бог не дал ей совсем погаснуть, потому что судил монастырю великое служение уже в недалеком будущем. Как объяснить подобные исторические судьбы – одному Богу известно…
Возрождением своим пустынь обязана знаменитому митрополиту Московскому Платону, который, посетив ее в 1795 году, «признал место сие для пустынножительства весьма удобным, почему и решился оное тут учредить, по образу Песношского монастыря». Митрополит Платон обратился к настоятелю сего монастыря с просьбой дать для этой цели способного человека. Таковым был признан иеромонах Авраамий>5.
Прибыв в Оптину, отец Авраамий нашел ее в немыслимом запустении. «Не было полотенца рук обтирать служащему, – рассказывал он впоследствии, – а помочь горю и скудости было нечем: я плакал да молился, молился да плакал». Через два месяца он отправился обратно в Песношский монастырь и просил настоятеля «снять с него бремя не по силам». Но тот утешил отца Авраамия и повез по знакомым помещикам, которые снабдили его необходимым на первое время. Вернувшись, настоятель собрал братию и сказал: «Отцы и братия! Кто из вас пожелает ехать с отцом Авраамием для устроения вверенной ему обители, я не только не препятствую, но и с любовью благословляю на сие благое дело».
Некоторые из монахов приняли благословение и поехали с отцом Авраамием в Оптину пустынь. Бог знает, каких трудов стоило им возрождение захудалого монастыря, но только после двадцатилетнего настоятельства отца Авраамия порядок в нем установился верный и твердый.