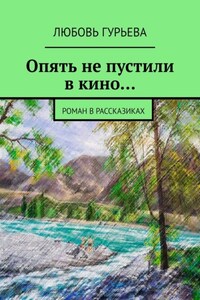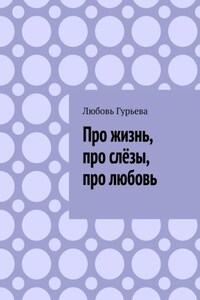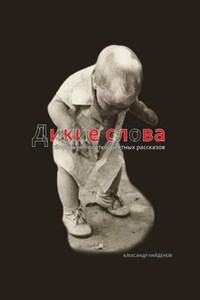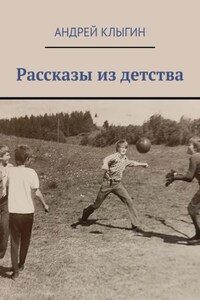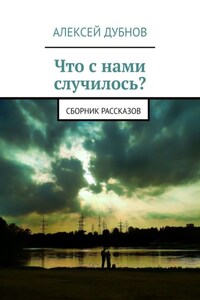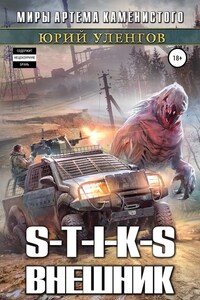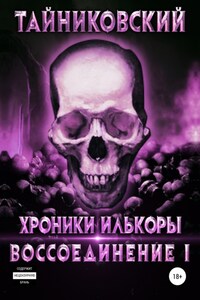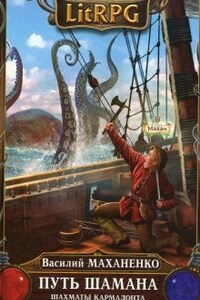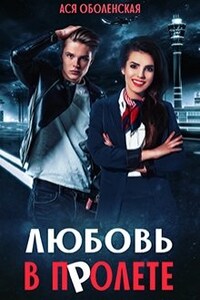Родина моя – деревня Бутино в Кировской области.
Что означает название деревни, выяснить мне не удалось. Прочитала, однако, как и когда она появилась: когда-то в этом месте, близ реки Камы, проходил Сибирский тракт, и, когда в 1669 году было обнаружено богатое месторождение полезной глины, тут построили деревянную церковь Спаса Преображения, а рядом с ней образовалось большое село. Здесь изначально жили мои предки по фамилии Печеницыны, как мой дедушка Павел Николаевич, и Нечаевы – это девичья фамилия моей бабушки Анфисы Егоровны.
И я здесь родилась. Хотя… где конкретно я появилась на свет, и что на этом свете я увидела впервые – белые стены роддома в ближайшем селе или бревенчатые стены бабушкиной деревенской избы, мне никто не рассказывал, и спросить уже не у кого…
А через два года после моего рождения семья перебралась в посёлок Чус, на правый берег Камы.
Помню, помню: это было зимой, я ехала в карете. Крупные, с тетрадный лист, снежинки медленно кружились на фоне серого неба, залетали в приоткрытое окошко кареты, мягко падали и таяли на моём лице…
Когда я несколько лет спустя рассказала об этом бабушке, она слегка оторопела: какая такая карета?! Потом долго смеялась над моими «воспоминаниями»:
– Гляди-ко, цё удумала!
И открыла мне «страшную тайну»: везли меня в простых крестьянских санях-розвальнях, я была укутана в бабушкину шаль, угол которой был откинут, дабы дитятку было чем дышать.
Чус
Посёлок, в котором я прожила следующие 8 лет, называется Чус – по имени речки, впадающей в этом месте в реку Каму.
Уже позже я узнала, что мы с посёлком почти ровесники: он был образован на месте временного сплавного участка Кайского леспромхоза и официально зарегистрирован как посёлок в декабре 1955 года.
Там появились первые щитковые дома, баня, клуб, столовая, пекарня. Одновременно строились производственные объекты: депо для ремонта подвижного состава узкоколейной железной дороги, гараж, пилорама и электростанция.
Вот родители и махнули туда из деревни – в леспромхозе была работа.
Моя семья
Когда я пытаюсь вспомнить своё раннее детство, то кажется, что это была не моя жизнь, а какой-то другой девчонки: отдельные эпизоды очень явственно встают перед глазами, как картинки в кино, другие возникают где-то в глубине сознания расплывчатыми мыслями, и многое остаётся как бы «за кадром».
В посёлке отец устроился машинистом паровоза на узкоколейке.
Мама, не имевшая никакой специальности, работала на лесозаготовках, а одно время – в столовой, о чём я сужу по фотографиям, потому что сама не помню.
После меня уже на Чусу родилась сестра Валя, потом Люда, брат Саша. Мы все были дома под присмотром бабушки. Я даже не знаю, был ли в посёлке детский сад, хотя – как не быть, думаю?!
Бабушка – самый светлый человек в моём детстве. Она была нашей кормилицей, защитницей, воспитательницей, а мне ещё и подружкой. Отец мой так и звал нас язвительно: «подружки».
Бабушка нянчилась со всеми своими внуками, ухаживала за скотиной, работала на огороде, в одиночку ходила летом и осенью в лес «по грибы да по ягоды». Грибы сушила и солила, мочила клюкву и бруснику, готовила незамысловатую крестьянскую еду. И к праздникам пекла пироги.
Где и как мы жили
Жили мы в щитовом домике на четыре семьи, в каждой квартире было по две комнаты с печкой между ними. Комната, в которую выходила печная плита, была одновременно кухней, столовой и спальней для бабушки и нас, детей. Правда, в последние годы мы жили в двух квартирах, в стене между ними отец прорубил дверь. Таким образом, у нас было четыре комнаты с крылечками в противоположных торцах.
Жили мы бедненько. Из мебели были только металлическая кровать для родителей, деревянная – для бабушки и детей (кажется, одна на всех!), столы, табуретки и лавки вдоль окон. Да, ещё сундук был. Бабушкин, привезённый из деревни. Верхнюю одёжку вешали на гвоздики, прибитые к дверям.
На подоконниках в жестяных консервных банках стояли комнатные цветы, которые разводила мама: «мокрый Ванька», крапивка, фикус, горький перец, который я как-то лизнула и долго бегала потом по дому с высунутым языком.
Мама рукодельничала: вышивала и вязала крючком подзоры – кружевные оборки по краям занавесок и простыней. Припоминаю, что и банки под цветами тоже были украшены вязаными «юбочками».
Поблизости от дома стоял хлев, почему-то я его плохо помню. Знаю только, что у нас всегда была корова. Поскольку я, вспоминая о ней, называю её то Милкой, то Малюткой, то могу предположить, что коровы было две. Не сразу, конечно, а поочерёдно.
А я, знаете, что вспомнила? Ни разу не слышала от моей бабушки-крестьянки слова «корова» – всегда только «коровушка», с уважением. А потому что – кормилица же!
Держали также кур и свиней – на мясо, естественно. И, спасибо отцу и бабушке, это они занимались скотиной и резали её на мясо, – я ни разу не видела этого процесса. Хотя почему-то с детства не ем куриное мясо – может, всё-таки что-то было с этим связано…
Рассказ бабушки
Му-у-у-у-у-у!
Услышав тревожный голос Малютки, бабушка забеспокоилась: что-то стряслось! Малютка – корова умная, не станет она просто так громко мычать. Да и Любашки давно не видно, а только что ведь топотала тут, между грядок.
Бабушка, с трудом разогнув затёкшую спину – с утра окучивала картошку, побежала за угол дома.
Картинка, которую увидела бабушка, была из раздела «и смех и грех»: прямо перед ней стоял телок и, ухватив толстыми губами двухлетнюю Любашку за загривок, размахивал ею из стороны в сторону. Малютка, видимо, пыталась образумить сынка, грозно мыча на него, но неслух продолжал забавляться живой «игрушкой».
Самое интересное, смеялась бабушка, Любашка не плакала, а с любопытством смотрела на качающийся перед ней мир.
Видимо, ей нравились такие «качели»…
Голландка
Отец у меня был вообще-то рукастый, много чего мог сам сделать. Сложенная отцом печь-голландка была, мне кажется, гордостью всей его жизни. Где, откуда он взял образец? Тогда даже телевизоров ни у кого в посёлке не было. Но он её сложил, и это слово «голландка» мне с тех пор запомнилось.
Чем же мы отапливали комнаты раньше, спросите вы. Печкой, конечно, только та печка была низкая, как нынешняя электрическая плита. Кроме обогрева, на ней и еду готовили.
Голландка тоже несла на себе двойную задачу, но тепла от неё было больше и сохранялось оно дольше. Да и гордость опять же – голландская!