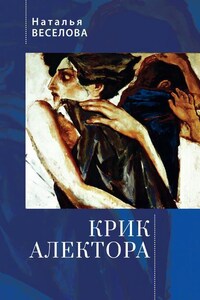Глава 1
Свидетель крещения Руси
Сознание возвращалось урывками. Ему будто бы позволяли глянуть на свет Божий из наглухо зашторенной незнакомой комнаты поочередно через разные дырки в бесцветной шершавой гардине. Место, где ткань расползлась от ветхости и обнадеживающе просвечивала серым, вдруг само наплывало на его испуганные глаза – и тогда можно было на мгновение почти четко увидеть застывшую картинку, сначала похожую на неудачную случайную фотографию. Но сразу становилось ясно, что это никакая не фотография, а некрасиво застывший кадр любительского фильма, – и его запускали вновь безо всяких просьб до поры до времени молчаливого зрительного зала. Так мелькнули стертые за полтора века до опасной гладкости ступени родного дома – только не внизу, под привычно шагавшими ногами в серых кроссовках, а прямо перед глазами, будто лестница, на секунду вообразив себя стеной, по чьей-то чудовищной воле поднялась вертикально. По ступеням почему-то бойко топали вверх, вместо обутых ног, заскорузло окровавленные руки – его собственные, потому что серебряный перстень-печатка с упрямо вставшим на дыбы черненым Пегасом ритмично мелькал на левом безымянном пальце. Когда руки благополучно, хотя и с мучительными перерывами, добрались до пункта назначения, а именно – обитой вагонкой двери, гардина вдруг без предупреждения бесшумно поехала вбок. Наплыло другое рваное отверстие, в котором оказалось сперва плоское и бледное, но быстро ожившее и выпучившее блеклые глаза хорошо знакомое лицо доброй соседки-старушенции, немедленно захлопавшее беззубым рыбьим ртом. Хотя кино крутили явно немое, с нелепыми подпрыгиваньями героев, он отчетливо услышал старушкин парадоксально оперный голос, сразу густо запевший, будто начало трагической арии: «Василь Саныч… Господи… Что ж это…» – но тут опять вступила в дело рваная штора, пыльно бухнувшаяся между ними, как театральный занавес в конце четвертого акта трагедии, и он вновь оказался в душном плену не то одиночной камеры, не то… Самого себя! Один смутный толчок крови в голову – и он осознал, что заперт всего лишь в собственном теле, и уж два-то окна наружу у него совершенно точно имеются! Поэт открыл глаза и увидел традиционный белый потолок.
«Больница», – бесстрастно и бессловесно, каким-то гораздо более быстрым и доходчивым способом констатировал кто-то извне. И Поэт в то же мгновение расколдовался. Повезло все-таки, подумалось ему: ведь, когда полз по ступенькам вверх, то ускользающим, как детские санки с горки, сознанием понимал, что сил дотянуться до звонка двери на первом этаже уже не хватит. Бесконечно длинные минуты преодолевая до тех пор и вовсе ни разу по-настоящему не замеченную куцую лесенку, успел смириться с тем, что это – смерть. Знал, что и ползет-то чудом, потому что голова, скорей всего, проломлена, и там уже осколки костей, наверное, смешались с его еще теплой кровью – ведь били-то отморозки, кажется, монтировкой. Не больно вовсе: вошел в свой родной питерский подъезд, за всю жизнь единственный, и даже дверь, не глядя, кому-то за собой придержал по привычке; потом – мгновенный яркий всполох не в глазах, а где-то внутри, во тьме черепа, – и все. Очнулся лицом в побитые метлахские плитки, свернувшаяся кровь стянула кожу, запаяла глаза. Кое-как разодрал их, с корнем вырывая присохшие ресницы, и – воспоминание в воспоминании, как желток в яйце: в детстве болел гнойным коньюктвитом, и вот точно так же по утрам нельзя было раскрыть намертво, как створки ракушки на заливе, склеенные веки… Что умрет, не сомневался, поэтому, когда полз, если и думал о чем, так об одном: достал, значит, все-таки, кого-то из них стихами своими, в самую точку попал – не снесли; не зря погибал, с честью… И, кстати, в тридцать семь, как по профессии положено.
Но ничего – выходит, еще поборемся? Залатали, значит, доктора череп-то пробитый? Поэт дерзнул немного повернуть голову на подушке, и предположения сразу с поспешной готовностью подтвердились: он увидел изящную бездействующую капельницу и металлическое изножье казенной кровати. Поскольку нигде пока не заболело, он деликатно поерзал на ложе, смутно предчувствуя угрожающе-ржавый скрип древней, как кольчуга витязя, панцирной сетки, и уже представил себе, что вот сейчас она бурно заколышется под ним, будто резиновый матрац, испустивший дух прямо на глади морской, – тоже одно из страшных детских воспоминаний, восходящих аж к самому Артеку, – но ничего подобного не случилось. Больничная койка оказалась спокойной, прямой, в меру мягкой и гораздо более удобной, чем их с Валей по нынешним миллениумным временам уже антикварная, вся в жестких ямах, супружеская кровать, на которой в свое время родители его и зачали в самую первую свою брачную ночь… Валя! Поэт непроизвольно схватился за голову обеими руками, мимоходом обнаружив, что голова плотно забинтована, – но это, как нечто само собой разумеющееся, проплыло сбоку вполне проснувшегося сознания, а главным стало внезапное острое воспоминание о семье. Валя и Доля (семь лет назад он сдуру не воспротивился затейливому желанию жены назвать новорожденную дочку испанским именем Долорес в честь героини какого-то не замеченного им, но важного в ее жизни телесериала) сейчас, должно быть, сидят, игнорируемые бело-зеленым персоналом, в длинном негостеприимном коридоре – потому что девочку, разумеется, не с кем оставить в трудный час. Он отчетливо представил, как Валя, всегда молчаливая в минуты волнения, неудержимо трепещет всем своим гибким осиновым телом, а человеческого в ней осталось – только два огромных, светло-карих и мокрых, как аквариумные рыбки, глаза, словно бы без лица, а на тонких дрожащих ниточках. Был бы не поэт, а художник-импрессионист, – «портрет жены художника» он бы написал именно так, пикассисто. Только таким он внутренне видел подлинный образ жены, иначе он свою Валю в ее отсутствие и представить не мог.
Нет, голова все-таки побаливала. Вернее, в ней ощущалось что-то похожее на ленивое перекатывание тяжелых железных шаров, поэтому подымался Поэт со всеми необходимыми предосторожностями. На полпути заметил прямо над собой в прямом смысле палочку-выручалочку, то есть, надежную перекладину, специально предназначенную, чтобы ослабленному больному удобно было хвататься при вставании. Он и схватился, привычно подтянулся, вновь испытав дежа-вю (ну да, конечно, ничего страшного: турник в школьном спортзале), только тогда огляделся как следует – и ошеломленно присвистнул.