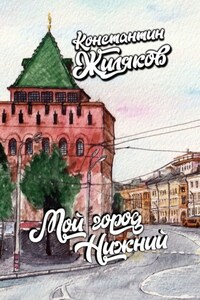Начинаем, как всегда, издалека: давным-давно я писал кинорецензии для относительно престижной публикации, которая приказала долго жить. Тем не менее с присущей мне наглостью я продолжал посещать просмотры для прессы. Так получилось, что я посмотрел последний фильм братьев Тавиани «Цезарь должен умереть». Я не самый большой поклонник их творчества, но много лет назад они сделали пару достойных фильмов, так что, что бы они ни наварили после этого, взглянуть стоит. Особенно если учесть, что они преклонного возраста и вообще не так уж много фильмов сделали.
Как ни верти, «Цезарь» не вершина кинематографа. Это один из тех проектов, которые лучше выглядят как «замысел»; что касается претворения, это просто-напросто театральная постановка шекспировской пьесы, осуществленная в римской тюрьме, где все роли играют заключенные (не путать с Довлатовым!). В общем, классная идея, если подкурить и обеспечить доступ к госфинансированию.
«Короче, Склифосовский». Что-то у меня екнуло, когда я прочел надпись на экране: «Тюрьма „Ребиббия“». Дело в том, что я там отсидел целый день в 75-м.
Я понятия не имею, почему меня на день перевели в «Ребиббию». До этого я отсидел шесть дней в знаменитой римской тюрьме «Реджина Чели». Почему меня за день до суда собрались перевести? После недели в итальянской тюрьме такие вопросы не задают. Для иностранца итальянская тюрьма – это абсурдистская вселенная, Кафка/Борхес/«Уловка-22», мир, в котором причины и следствия постоянно меняются местами, пока никто не может понять, что где лежит. Мое же замешательство усугублялось тем, что я вообще только приехал – еще десять дней назад я был в Москве… Наверное, по прошествии некоторого времени можно было разобраться в блок-схеме этого механизма и подняться от простого выживания на уровень относительного комфорта. Но, оглядываясь на прошлое: может, все же лучше провести неделю в замешательстве, чем годы в изучении этой системы.
Еще интересно в моей реакции то, что речь идет об одном слове: «Ребиббия». Потому что у меня не сохранилось совершенно никакой зрительной памяти этого места – только то, что оно было на порядок новее и чище, чем «Реджина Чели». Это было как два разных Рима: «Реджина» была в Трастевере, бывшем гетто и нынешнем Вилидже, где каждый камень такого насмотрелся за две тысячи лет, что не дай бог. «Ребиббия», похоже, была сколочена на скорую руку итальянскими бюрократами – все в РЧ не помещались.
Наверное, пора перейти к делу. Только после суда я узнал состав преступления: «rapina aggravata», или ограбление с отягчающими обстоятельствами. Я долго потом таскался с листочком, где было написано, что «синьор такой-то был признан невиновным по такой-то статье», но с моими переездами у бумажки практически не было шансов.
А случилось вот что: как большинство эмигрантов, я поселился в Остии, прибрежной деревушке в часе езды от Рима. Я делил двухкомнатную квартиру с тремя русскими ребятами, с которыми я познакомился пять минут назад на площади, куда эмигранты сходились потрепаться о том о сём, типа: «Почем идет ФЭД на местном рынке?» и «Что такое Кливленд, и чем он лучше Питтсбурга?».
Наш квартет был социологическим срезом эмиграции: один из Одессы, один из Минска, один из Москвы, и одного я не помню. Двое были инженерами, двое разъебаями. У одессита были какие-то смутные планы «собраться с ребятами, а там разберемся». У меня вообще никаких планов не было. Мне только что стукнуло двадцать четыре, и я собирался просто жить.
В первый вечер, естественно, мы отметили. Эйфория была еще та: «Большевики-козлы-хрен-им-теперь-отсосут» и так далее. Вена была нормальным городом, Рим – еще лучше, а Бруклин – вообще Чистый Изумруд. Я отключился еще за столом и не помню, как добрался до койки. По дороге я краем глаза увидел, как одессит вылез на террасу и встал на поручень. «Ну чистый Долохов», – подумал я и закрыл глаза.
Отоспаться мне в ту ночь не удалось…
Пробуждение было как дурной сон: направленный свет в лицо, разноголосый гомон и полиция, полиция кругом… К счастью, я не увидел, чтобы кто-то из них достал оружие. Тогда бы мне вообще плохо стало. «Вот какая чушь после дешевого вина снится, – подумал я, – евреи, не экономьте на выпивке…»
Но подсознание работало четко, и потребовалась всего доля секунды, чтобы увязать этот бардак с ночными похождениями одессита. Его вылазка на террасу означала только одно – он перелез на соседнюю террасу, что-то взял, и его заметили. Но я-то тут при чем?! И что мне делать с этими холодными логическими дедукциями? В ту пору я еще не насмотрелся судебных триллеров; совета, что делать в такой ситуации, было взять неоткуда, и мой ослабленный десятитонным похмельем мозг решил одно: сегодня никто никуда не бежит. Дали бы доспать, а там видно будет. Может, и правда, проснусь, а там солнышко светит и море блестит.
В двадцать второй раз умиляюсь избирательности памяти. Ну не помню я физических деталей, и это к лучшему, по крайней мере, никто не напишет: «Да не могло такого быть» или «Полицейские не имели права делать то-то и то-то, вследствие чего дело должно было быть моментально прекращено». Я вас умоляю. Я даже не помню, надели ли на нас наручники – должны были, но если так, то мои запястья этого не помнят. По контрасту: они помнят хлад наручников в другой ситуации, но это было лет на пять позже.
Вот, одна деталь – сто процентов: мы проходим через двор, толпа соседей по обе стороны и ремарки: «Eh… bravi!», сопровождаемые скорбным киванием.
И еще было ожидание. Те, кому эта процедура знакома по ТВ, ожидают, что оформление ареста займет двенадцать минут между блоками рекламы; на самом деле все госучреждения – больницы, армия, полиция – соревнуются в медлительности (якобы обстоятельности) при поступлении людского материала. В данном случае это означало бесконечное хождение из комнаты в комнату, где тебя обыскивают, заносят в одну книгу, другую, третью – и в перерывах ты ждешь, и ждешь, и ждешь.
Различные персонажи из моего прошлого и будущего воспользовались моментом, чтобы пробиться на сцену моих дрем. Школьный учитель по труду: «Хоть чему-то я тебя научил, вот тебе пилка, давай пили наручники (значит, все же были)». Сосед по коммуналке, который утверждал, что я ему должен трешку: «Можешь отдать лирами, почем там курс?» И трамвайная кондукторша, которая винила меня в том, что я не пришел на свидание с ней: «Я двадцать рэ за прическу отдала!» Пока дело дошло до официального допроса, я уже был измотан дальше некуда. Особенно кондукторшей, ее звали Клавдия (или Калерия), и, по-моему, у нее были не все дома. По крайней мере, сдачу она давала всегда неправильно, причем и в ту и в другую сторону. К моменту, когда позвали на допрос, мне уже пришло в голову: может, это месть, может, я к ней тоже являюсь во сне, и если да, то в каком обличии? В общем, когда вызвали на допрос, я почувствовал некоторое облегчение.