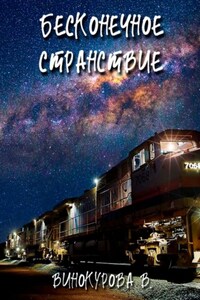Летние каникулы не задались с самого начала: отец без моего ведома решил, куда мы поедем отдыхать.
Он всегда за меня всё решал: ни шагу в сторону, ни взгляда через забор, быть только там, где наказано, делать только то, что приказано. Рот лишний раз не открывать, телефон не брать, пароль не ставить – ничего не писать, молчать.
У него возникла мысль, что, если мы будем далеко от цивилизации, вне независимости от современного общества, компьютеров, планшетов, умных домов, мне станет лучше. Я не буду на него огрызаться, буду вести себя как уважающий отца сын, а не разгильдяй, который недоволен тем, что его вырвали на прогулку.
Я не собирался проводить время с отцом. Я не намеревался даже находиться с ним в одной комнате, если будет такая возможность, поэтому взял с собой альбом, тетрадь и ручки, карандаши, чтобы рисовать, писать. Но это не значит, что рисование и написание плешивого рассказика о том, как я провёл каникулы, заменят мне друзей, с которыми мне хотелось провести оставшееся лето.
Хотя кто знает, как хорошо бы мы его провели… В последнее время у них накалились отношения с родителями.
У Дэна отец всё чаще стал пропадать после работы. Мать его дозвониться не может, а когда он приходит, ничего не говорит, только от него воняет алкоголем, а потом он говорит, что нужны деньги. Уже все поняли, что он играет и проигрывает, за чужой счёт напивается и топит семью, а Дэн должен это выдерживать, должен с этим жить. Идти подрабатывать не в парк аттракционов, куда ему хотелось, а тайком на завод… чтобы платили нормально. Я и сам был готов ему деньги отдавать (столько, сколько высыпал на меня мой отец, мне не было нужно – это грязные деньги), только Дэн упёрся, сказал, что как отец, в долгах быть не хочет. А я же так… без долгов, от сердца. Пусть эти деньги помогут тому, кому они нужнее…
У Мэри что-то с мамой непонятное. Та почти всё время сидит, заперевшись в ванной, а когда выходит оттуда, ничего не говорит. Мэри спрашивает, но ей только швыряют, что это «не её собачье дело». Как-то раз Мэри пробралась в ванную и увидела, что шкафчик открыт, и там стояла целая банка с какими-то таблетками. Ни трогать их, ни пробовать, ни нюхать она их не стала, пыталась только выйти на разговор с матерью, которая откинула её как шавку.
Честно, когда Мэри это рассказывала, с места сорваться хотелось, найти эту её мамашу, выломать дверь в ванную и заставить её извиниться… Что это за отношение?
Кассандра в шутку говорила, что уже не помнит, как выглядят её родители – так «часто» они бывают дома. Раньше она просила внимания, контакта, хоть чего-то – какого-то взгляда, слова, кивка, но ничего, а сейчас… сейчас и денег не оставят, а она и не подаст виду. Я ей всегда покупаю обеды за свой счёт и говорю, что угощаю. Она не такая гордая, как Дэн, принимает мои утешительные подачки. Кто знает, как она живёт там, у себя дома.
Это ли называлось «накалились»? Их отношения уже пылали алым. По ощущениям, у меня так же: каждое слово, каждый жест, каждый вздох в мою сторону вызывали гнетущее чувство тотального порабощения. Он был везде, он проник в каждый уголок моей жизни, он знал, что моим друзьям плохо, он знал, как они нуждаются в моей поддержке, но всё равно забрал меня, чтобы не позволить действовать, решать, ходить по своей воле.
Мы ехали третий день к ряду, и сегодня вечером должны прибыть на место.
В дороге я обычно пытался заснуть. Если это не получилось, то смотрел в окно, только не в его сторону, и неважно, насколько тошнотворны мне однотипные пейзажи выжженных адовым солнцем земель, которые должны пестрить своей сочной зеленью. Запах выхлопных газов уже в печёнках, от закусочных, в которых вечно полно курящих и на вид неприятных людей, воротило. Я бы лучше поголодал эти три дня.
Отец, замечая мою реакцию, лишь отшучивался лишёнными юмора шутками: «Неженка, вылезай, потом ещё будешь ныть, что тебя не покормили. Мать бы мне такого не простила, смотрит с неба и думает, что сын даже отца уважить не может. Как маленького за руку брать надо и доставать из машины. Тебя взять за руку, Эндрю?» – Эти слова приходили прямиком из глубин прокажённых снов.
– Вставай давай. Приехали, – послышался его голос, и я открыл слипшиеся глаза.
Мы стояли на поляне, а вокруг густой лес. Успели покинуть жёлтые земли, пробраться наверх по склону и найти тенёк.
– Приехали… – тихо сказал сам себе, осознавая, что никуда отсюда не убегу.
Я вылез из машины, по привычке громко хлопнув дверью.
Вечерело. Небо забрало себе цвет земель, окрасилось оранжевым оттенком, а ускользающие облака и вовсе казались красными.
Я обратил внимание на небольшой двухэтажный дом, около которого мы и остановились. Наше новое место жилья на целый кромешный месяц в лесу, где солнце над нами будет только в зените, а звенящие мошки, которые уже подобрались к уху, будут преследовать даже дома.
Я раздражённо отмахнулся от насекомого и заметил, что ближе к земле стены дома уже покрылись сочно-зелёным мхом, выше – вьющимися растениями. Окна совсем крошечные и выложены плотным цветным стеклом… Сколько там внутри света? Кажется, его нет совсем. Как в гробу.
Рядом стояло ещё несколько похожих домов, но кроме нас – кроме нашей машины, тут никого не было.
Справа я заметил дорогу, которая давным-давно превратилась в оленью тропу. Стоило только на неё глянуть, как я услышал грубые наставления. Будто пихали раз за разом грудь, прямо к обрыву, по которому мы поднимались:
– Эндрю Дрейк Харвильтон, не смей никуда отсюда уходить, – обратился ко мне отец, доставая чемоданы из багажника.
Когда отец скрылся, я произнёс про себя:
– Да пошёл ты.
Грубиян и лентяй, да? Только если я что-то возьмусь делать, отец начнёт причитать, что я всё испорчу, что чемодан на ногу ему уроню, или хуже того, поцарапаю дорогую кожу, что, вообще, Эндрю Дрейк Харвильтон, твоё дело – всегда стоять в стороне и слушать взрослых, а не рыпаться и что-то там доказывать. Думаешь, ты чего-то стоишь?
Если бы я так думал…
«Ты чего-то стоишь только в одном месте».
Я мотнул головой, вытряхивая гнилые слова, и пошёл по оленьей тропе. Она уходила вниз под углом. Привела сначала к небольшому пруду, вокруг которого вились маленькие мошки, более безобидные, чем те, что звенели над ухом, но более настырные.
Я, размахивая рукой, прошёл мимо них, и ступил в грязь, чуть не упал и решил, что стоит идти по сухой тропе. Она видна не так хорошо, как прежняя, была у́же, более травянистой, но и более безопасной.
Пока шёл, вечно вздрагивал то от треска ветки под ногами, то от шуршания куста, который сам задел, то от собственного дыхания. Здесь тихо. Слишком тихо. Ни щебетания птиц, ни стрекота сверчков, ни карканья ворон, ни даже омерзительного свиста комаров… Они все пропали, и я остался один. Никого, кроме меня и моего сердца, тут нет.