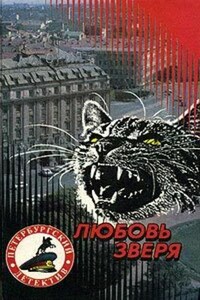В приемной императорской виллы нас встретил старый господин, к которому моя мать обращалась «мой дорогой граф». Он галантно поцеловал ей руку, не обратив никакого внимания на меня – возможно, потому, что просто не заметил. Я же во все глаза глядел на стоявшие у стены стеклянные ящики, заполненные чучелами птиц самых разных видов.
– Это – птицы бедного Рудольфа, – заметил старый кавалер, повернувшись к моей матери, которая позже объяснила мне, что всех этих птиц убил наследный принц Рудольф и велел сделать из них чучела, когда был еще совсем молодым.
В сопровождении графа мы поднялись по лестнице и прошли через несколько приемных залов. Один из них был отделан в серых тонах, другой – в красных, и все они – как шепотом сообщила мне мать – использовались для различных целей императрицей Елизаветой. Нам даже было позволено одним глазком взглянуть на кабинет, когда-то принадлежавший этой несчастной виттельсбахской принцессе. Стены его от пола до потолка были увешаны изображениями любимых лошадей императрицы. Но меня больше всего поразила картина с изображением пышно разодетого зуава, который когда-то, по словам графа, был самым любимым смотрителем гончих этой капризнейшей из европейских принцесс.
Покинув этот конский музей, где вперемешку висели изображения приятных и ужасных на вид животных, мы прошли через анфиладу комнат для ожидания, в одной из которых сопровождающий нас покинул. Моя мать, явно нервничая, принялась оправлять свое платье и мой «эрцгерцогский костюмчик», как вдруг ближайшая к нам дверь отворилась, и граф пригласил нас войти.
Я увидел в углу большой письменный стол, перед которым стоял очень старый господин, чье изображение я видел очень часто. Его императорское и королевское величество Франц-Иосиф I, владыка Австро-Венгерской империи, легкой походкой подошел к моей матери, которая склонилась в нижайшем реверансе, и, взяв ее за руку, отвел в другой конец комнаты, где стояли старомодный диван и несколько кресел. Неподражаемым жестом он пригласил ее сесть, оставив меня стоять у входа. Я очень надеялся, что он, как и его генерал-адъютант, не обратит на меня никакого внимания.
Потом, когда мы покинули виллу, мать рассказала мне, что это был знаменитый Императорский уголок, где однажды собрались на историческую конференцию государи России, Германии и Австрии.
Я вежливо стоял у двери, и до меня доносился только низкий гул разговора, происходившего в означенном углу. Чем дольше я глядел на старика, тем сильнее он напоминал мне Бога, и я чувствовал, что не осмелился бы подойти к нему и заговорить, как не осмелился бы обратиться ко Всевышнему. Он был так же далек от меня, как и Бог, плывущий на пурпурном облаке, и мне казалось, что он в любой момент мог подняться на небеса.
Я не знаю, о чем моя мать говорила с императором. Помню только, как государь сказал, что он рад, что императрица «избавлена от всего этого». Вероятно, он имел в виду убийство в Сараеве и нависшую над нами угрозу войны, но вполне возможно, что он говорил о чем-нибудь другом, – не знаю.
Неожиданно Всемогущий Бог спросил:
– Так это он и есть, не так ли? – Он приподнял руку и жестом подозвал меня к себе. – Как тебя зовут?
– Евгений, ваше величество, – запинаясь, произнес я, вспомнив наставления матери.
– Ну что ж, Евгений, – прозвучал голос в моих ушах, – надеюсь, ты станешь таким же прекрасным человеком, как Евгений Савойский, когда вырастешь. Он преданно служил моему дому.
Благодаря своему имени я кое-что знал о Евгении Савойском. Но я не знал тогда, что, если бы он не был столь преданным слугой Габсбургов, стул, стоявший напротив меня, вероятно, был бы занят теперь турецким султаном или потомком одного из злейших врагов эрцгерцогского дома времен Евгения Савойского.
– Когда ты родился? – был следующий вопрос.
Я увидел, что мать кусает губы, но мне было велено говорить смело, и я сказал:
– 21 августа 1900 года, ваше величество.
И тут я испугался. Всемогущий Бог провел по глазам рукой. Он повернулся к моей матери:
– Да-да… 21 августа – как и бедный Рудольф.
Я не понял, о чем это он, но император уже отвернулся от меня.
Дрожащей старческой рукой он выдвинул ящик стола и медленно вытащил портрет очень красивой женщины, которую я сразу же узнал. На ее шею падали крупные завитки золотисто-каштановых волос, а на лице застыло выражение легкой грусти. Бесподобную грудь женщины пересекала бледно-голубая орденская лента. Это была копия известного портрета молодой Елизаветы Австрийской, выполненная мастерской рукой Франца Шлоцбека.
– Как прекрасна была императрица, – еле слышно прошептал Франц-Иосиф. – Вы уже уходите, баронесса?
Он неизменно называл мою мать баронессой, поскольку много десятилетий назад сделал ее дедушку бароном и членом Тайного совета. Она кивнула со слезами на глазах, и наша аудиенция закончилась. Мать склонилась в реверансе, и старый император галантно проводил ее до двери, где нас снова ждал граф. Потом я услышал тихий голос последнего великого императора Европы:
– До свидания, баронесса, – до следующего года, наверное. Хорошо, что вы посетили меня. Я вам очень благодарен.
Граф проводил нас мимо оленьих рогов и лошадиных голов и через анфиладу приемных комнат императорской виллы вывел к боковому входу. Очень скоро мы поняли, почему он это сделал.
Приблизившись к большому фонтану, расположенному перед крыльцом с колоннадой, мы увидели, что площадь перед домом кишит народом – здесь были крестьяне и горожане, лесники, солдаты и бесчисленные дети с кипами альпийских роз и букетиками эдельвейсов в руках. Они стояли, притихшие и молчаливые, и ждали, когда откроется дверь на балконе и появится старый император, похожий на бога, сошедшего с Олимпа.
В эту самую минуту до наших ушей донеслись сначала тихо, а потом все громче и громче слова старого императорского гимна, написанного Гайдном: «Gott erhalte…»[1]
Мы увидели, как Франц-Иосиф поднес руку к фуражке, отдавая честь. Вскоре после этого он возвратился в Вену, чтобы никогда уже больше не увидеть своего любимого Ишля, своих оленей и серн. Это было 10 июля 1914 года, когда Европа стояла на пороге Первой мировой войны.
Аудиенция на императорской вилле в Ишле стала моим самым ярким воспоминанием о старой Европе, последним великим монархом которой был Франц-Иосиф. Никогда его не забуду, и, хотя я встречал на своем пути многих самозваных государей, он один является для меня воплощением королевского величия.
Моя мать жила в своем родном Мюнхене, погрузившись в воспоминания об эре Габсбургов-Виттельсбахов. Она продолжала давать вечеринки с чаем, на которых играли в тарот, этот бридж современного бомонда. Франца-Иосифа и его генерал-адъютанта – увы! – больше не было, но баварские министры и генералы с радостью заняли их места.